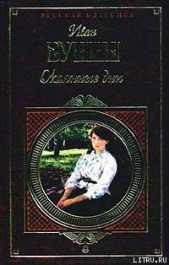Рахманинов

Рахманинов читать книгу онлайн
Книга посвящена Рахманинову Сергею Васильевичу (1873–1943) — выдающемуся российскому композитору, пианисту, дирижеру.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Мы плывем в тумане — рог протрубил сигнал тревоги», — писал в эти дни знаменитый итальянский музыкант Феруччио Бузони.
По улицам городов, тарахтя, чадя зловонным дымом и пугая лошадей, сновали редкие еще автомобили. С Ходынского поля на парусиновых крыльях подымался, падал, ломал кости и снова упрямо подымался какой-то неугомонный Уточкин. В темных комнатах за ситцевой занавеской про что-то свое стрекотал синематограф.
Умер Чехов, похоронили Льва Толстого, Комиссаржевскую. Что же дальше? Куда, за кем идти?..
Символисты, имажинисты, акмеисты, футуристы метали в растерявшуюся толпу загадочные и непонятные тирады. Либералы всех мастей делали вид, что они если еще не хозяева положения, то, на худой конец, властители дум.
Кружки, общества и ассоциации, философские, теософские, антропософские, литературные, художественные и религиозные росли буквально как грибы.
«Аполлон», «Мусагет», «Весы», «Алконст», «Золотое руно», «Мир искусства» исповедовали, благовестили и провозглашали.
В Москве рядом с добротными особняками и и церквушками фамусовских времен вырастали новые дома в стиле «модерн» в серой и цветной штукатурке с барельефами и кариатидами пучеглазых русалок, сатиров, медуз. Невероятные ассиметриче- ские оконные рамы таращили глаза на прохожих.
Только в зимних сугробах Москва выглядела почти как прежде и становилась на себя похожей.
«Безвременье…» Все чаще в спорах и разговорах мелькало это крылатое словечко.
«…Душно, как перед грозой, — вспоминает Мариэтта Шагинян, — время кажется остановившимся, внеисторичным. В воздухе, в настроении общества — ожидание, страстная потребность, чтобы произошло что-нибудь, чтобы ритм времени снова стал ощутимым…» Рождается жажда нового во что бы то ни стало, независимо от того, насколько оно, это новое, оправданно и закономерно. Высшим мерилом для оценки идей и образов искусства делалась степень их формальной новизны, «непохожести» на прежнее, набившее оскомину.
Горький в свое время говорил о десятилетии 1907–1917 годов, что оно заслуживает имени «самого позорного и бездарного десятилетия в истории русской интеллигенции».
Часть ее (интеллигенции), отшатнувшись от революции, бросилась в дебри реакционной мистики, декадентства, порнографии, провозгласила своим знаменем безыдейность, прикрыв свое ренегатство красивой фразой: «И я сжег все, чему поклонялся, поклонился тому, что сжигал…»
Каждому, кто пытался говорить пусть о новом, но старыми привычными словами, немедленно приклеивали ярлык «эклектика» или «эпигона».
В те годы в Москве рядом с именем Рахманинова блистали имена Александра Николаевича Скрябина и Николая Карловича Метнера.
Зрелое творчество Скрябина очень сложно, в остроиндивидуальной манере, но при этом с большой силой отражало грозовое дыхание своего времени, предчувствие грандиозных социальных потрясений.
Скрябина поднимала на щит целая фаланга музыкальных критиков, к сожалению более всего старавшихся увести композитора все дальше и дальше в сферу абстрактных мистико-идеалистических исканий.
Очень узким, «камерным» был крут поклонников Метнера. Большинство же рецензентов подчеркивали его приверженность к традициям немецкой школы, особенно к Шуману, Брамсу, хотя он и не менее настойчиво стремился выработать собственный стиль. Поругивая Метнера, критики тем не менее не отрицали того, что он представляет какое-то так или иначе избранное художественное направление.
Совсем по-иному сложилась судьба Рахманинова.
В те годы он был в зените своей славы, которая шагнула далеко за пределы России. В этом не только Метнер, но и Скрябин не могли с ним сравниться. Его концерты повсеместно сопровождались потрясающим успехом у публики. Многие его поклонники ездили за ним по пятам из города в город, чтобы не пропустить ни единого концерта. Молодежь проводила ночи возле концертных касс. Толпы людей допоздна дожидались его выхода у артистического подъезда. Казалось, не было границ для выражения восторга, любви и благодарности, которыми осыпали музыканта.
Но у большинства из пишущих на музыкальные темы ответ был готов:
— Рахманинов? Ну, конечно, спора нет: он гениальный исполнитель. Но его сочинения… Ведь он типичный эклектик!
«Эклектик…» Пожалуй, самое страшное слово для композитора. Никакой шумный и горячий прием у публики не в состоянии был его заглушить. Семя неверия в себя самого, сомнения в своем даровании упало на почву и дало ростки. А что, если он и впрямь только эпигон Чайковского?..
Он мучился и не находил решения.
Еще тяжелее становилось от сознания, коренившегося в глубине души, что он прав, что у него есть о чем рассказать людям, рассказать что-то свое, новое, рахманиновское и больше ничье.
И часто шевелилась еще до конца не осознанная мысль, что, наверно, так и суждено ему стоять одному, принимая на себя удары, защищая то, что дороже жизни.
Недаром, как писал один из критиков, «произведения г. Рахманинова всегда принимаются с особой, я бы сказал, нервозностью. Г. Рахманинов — тот столп, вокруг которого группируются все поборники реального направления…».
Если он уступит, сойдет со сцены, то все созданное веками русской музыкальной культурой пойдет на поток и разорение «западников» — декадентов.
И те, кто любил его, верил в него, понимали это не хуже его самого. Для них, как и для Собинова, он, Рахманинов, был «единственной надеждой в области музыки». Они знали, что он свой, наш, русский до мозга костей.
В феврале 1912 года по давней договоренности с дирекцией Мариинского театра Рахманинову предстояло продирижировать пять спектаклей «Пиковой дамы». Приближалась двадцатая годовщина со дня смерти Чайковского.
Рахманинов устал. Непрерывное напряжение сил давало себя знать. Даже лето на этот раз не принесло ему заслуженного отдыха.
Еще в апреле прошлого года он почти неожиданно для себя сделался единоличным хозяином Ивановки. Здоровье его тестя пошатнулось, и он решил отойти от дел.
Сперва новая сфера, открывшаяся для приложения сил, обрадовала музыканта. Он любил землю, пахоту, косьбу, охотно сам брал в руки косу, отлично ездил верхом. Он любил крестьян, и ему казалось, что он хорошо их знает. Если в последнем он заблуждался, то в те дни это заблуждение было всеобщим.
Но уже в первые дни новый тамбовский помещик понял, что сельское хозяйство, если им заниматься всерьез, берет всего человека без остатка. Надежда на то, что он, как и прежде, сможет сочинять в часы досуга, оказалась утопией.
Только в августе он смог записать фортепьянные пьесы, сочиненные в разное время. Он искал новой формы для воплощения волновавших его образов и нашел ее. Так были созданы первые этюды-картины.
Это и на самом деле были картины, но их содержание он навсегда сохранил в тайне.
Их было на этот раз всего восемь, но две из них, сдавая в печать, он почему-то исключил, хотя они ни в чем не уступают другим.
Ре-минорный этюд особенно полюбился дома. Вся пьеса от первой до последней ноты взволнованная, искренняя, полна непередаваемой прелести.
Благожелательная критика приняла новые пьесы очень осторожно именно в силу их новизны.
Почти весь октябрь Рахманинов концертировал в Англии. Повсюду он играл свой Третий концерт с голландским дирижером Виллемом Монгельбергом. Печать на этот раз слилась в едином хвалебном хоре. «…Невозможно отделить эту музыку от магических чар композитора-исполнителя. Он один из немногих пианистов, а может быть, и единственный после Листа. Кульминации концерта исполнены такой же титанической силы, как и породившие их идеи…» — так писал «Таймс».
Все это было, разумеется, весьма лестно. Таких рецензий не бывало, пожалуй, и в русских газетах. Но каждому художнику хочется быть пророком прежде всего в своем отечестве.
На репетиции «Пиковой дамы» после второго акта, когда он вышел покурить, седой, в баках капельдинер подал ему письмо из Москвы, конечно анонимное (сколько он получал таких изо дня в день!) и подписанное ноткой «Ре».