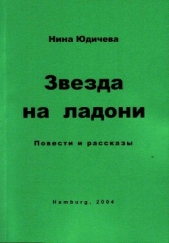Случай Эренбурга

Случай Эренбурга читать книгу онлайн
Илья Эренбург, одна из самых противоречивых фигур в советской литературе и общественной жизни, предстает в этой книге не только прекрасным прозаиком, тонким поэтом и блистательным публицистом, но прежде всего человеком, переживающим драму, поставившим свой талант на службу сталинскому режиму и делающим многое этому режиму вопреки. Размышления автора о жизни и творчестве Эренбурга перемежаются воспоминаниями о встречах и доверительных беседах с ним.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Позже я узнал знаменитую формулу (кажется, Бора), согласно которой мысль, которая представляется нам истинной, а противоположная ей ложной, — это, в сущности, мелкая, плоская мысль. По-настоящему глубокой можно считать только ту мысль, по отношению к которой и противоположная, противостоящая он мысль — тоже верна.
Услышав в чьем-то пересказе это замечание Бора (наверно, все-таки Бора), я обрадовался: к тому времени это уже совпадало с моим собственным опытом. И этот свой опыт я обрел именно вот в тех бесконечных моих спорах с Шуриком Воронелем.
Ведь до этого мне приходилось спорить в основном с моими коллегами-гуманитариями. А Шурик был — физик. И он привнес в наши споры совершенно незнакомый мне до того тип мышления. Позже, встречаясь и беседуя с другими — иногда даже весьма крупными — учеными-физиками, я убедился, что этот тип мышления далеко не всем им был присущ. Во всяком случае, когда они рассуждали на гуманитарные темы. Шурик от этих своих коллег отличался тем, что его опыт физика неизменно давал себя знать в обсуждении именно гуманитарных проблем.
Когда я с ним познакомился (это было в начале 60-х), он произвел на меня впечатление прирожденного ученого-естественника. Он был влюблен в свое призвание физика-экспериментатора, суть которого, как он мне объяснил, состояла в том, чтобы задавать вопросы природе. И этому своему призванию он был верен. Верен настолько, что не только себе, но и коллегам — сотрудникам, ученикам — не позволял ни на миг изменять ему ради других склонностей и увлечений, какими бы почтенными эти склонности и увлечения ни были.
Одному молодому физику, увлекшемуся самиздатом и правозащитной деятельностью, он даже сказал:
— Вы должны решить для себя, кем вы хотите быть: ученым или профессиональным революционером. Два эти рода деятельности несовместимы. Наука требует человека целиком.
Сам он, однако, этому принципу не последовал. В какой-то момент стал «профессиональным революционером» и даже начал издавать подпольный журнал «Евреи в СССР», из которого потом вырос и поныне выходящий в Иерусалиме журнал «22». (Шурик и сейчас его главный редактор.) Позже он написал несколько книг и множество статей на темы философские, исторические и даже литературоведческие.
Но тогда до всего этого было еще далеко. Тогда он был — повторю еще раз — преуспевающим физиком-экспериментатором, перед которым только-только открылись весьма заманчивые научные перспективы: он был приглашен тогда на какую-то очень интересную и престижную работу в Дубну и не на шутку этой работой был увлечен. И тем не менее уже тогда мне показалось, что в физике ему как-то тесно. В разговорах наших — а разговаривали мы часами и, если бы это было возможно, вели бы наши бесконечные разговоры сутками, не прерываясь даже для ночного сна, — доминировали темы сугубо гуманитарного свойства.
Это было так для меня удивительно, что однажды, не удержавшись, я сказал ему:
— Признайтесь, ведь по главным, самым тайным своим душевным склонностям вы совсем не естественник! Типичный гуманитарий: историк, философ. И как это только вас угораздило стать физиком?
Вопрос, разумеется, был риторический. И я ожидал, что Шурик в ответ только улыбнется своей милой застенчивой улыбкой. Риторический вопрос ведь потому и называется риторическим, что не требует ответа.
Но Шурик на этот мой риторический вопрос ответил. В ответ на него он рассказал мне такую историю.
В девятом классе, сколотив группу единомышленников, он стал выпускать с ними рукописный журнал Журнал был скорее литературный, но отчасти и политический. Хотя — какая там могла быть у них политика! Ну писали, что комсомол стал организацией не столько идейной, сколько формальной. Что нужна какая-то другая молодежная организация, в которую принимались бы только ребята, по-настоящему одушевленные великой идеей переустройства мира. Настоящие, пламенные революционеры… И хотя все эти идеи в основе своей вполне укладывались в официальную идеологию — во всяком случае, никак ей не противостояли, напротив, хотели ее оживить, влить в ее омертвелую плоть толику молодой, свежей крови, — деятельностью молодых романтиков заинтересовались в «Министерстве Любви». И всех их, разумеется, забрали.
Было следствие, после которого их отправили — к счастью, не в лагерь, а в детскую исправительную колонию.
Там, само собой, тоже было не сладко. Но на эту тему Шурик в своем рассказе особенно распространяться не стал. Он только сказал, что пробыл в той колонии сравнительно недолго: чуть меньше года. А потом вернулся в свой девятый класс.
А когда он учился уже не в девятом, а в последнем, десятом классе, его маму неожиданно вызвали в «Министерство Любви». И там с нею провел беседу очень милый и — как ни странно — на редкость доброжелательный полковник. Он спросил, как поживает ее сын, как он учится, какие у него интересы, какие планы после окончания школы: куда намерен он поступать.
Мама Шурика ответила, что настроение у сына хорошее. Все свои ошибки и заблуждения он полностью осознал. Учится хорошо. Из всех школьных предметов больше всего любит историю и поступать собирается на истфак.
— Так вот, — сказал ей на это полковник. — Мой вам совет: употребите все ваше влияние и во что бы то ни стало убедите сына поступать не на истфак, а на какой-нибудь естественный факультет. Пусть займется химией. Или физикой. Только — ни в коем случае — не историей, не философией и — упаси, Господи! — не литературой. А иначе он обязательно к нам вернется. Вы меня поняли?
Мама Шурика очень хорошо его поняла. И употребила все свое влияние. И — что самое удивительное — Шурик внял совету полковника. (При его характере он вполне мог и заартачиться. Но тут, видно, сыграл свою роль опыт, полученный в исправительной колонии: попасть снова в учреждение, подведомственное «Министерству Любви», ему совсем не хотелось.)
Так он стал физиком. Что, впрочем, не уберегло его от новых встреч с сотрудниками этого славного министерства.
Но тут уж дело было не в профессии, а в характере.
Спасая своего друга Даниэля (с Юликом они были связаны давней и тесной дружбой, именно он меня с ним и познакомил), Шурик готов был обратиться за помощью не то что к Эренбургу, но и к самому дьяволу. Но об Эренбурге при этом он отзывался крайне враждебно. Я бы даже сказал, с какой-то неистовой злобой.
Когда я попытался доискаться до причин этой его повышенной злобности, он угрюмо сказал:
— Никогда не забуду, как я плакал, читая одну его статью.
Я не понял. Все тогдашние статьи Эренбурга я тоже, конечно, читал… Но мне было решительно невдомек, над чем там можно было плакать.
— Я плакал, — объяснил Шурик, — потому что все, что я думал и чувствовал тогда, было в противоречии с тем, что думали и чувствовали все мои друзья. И учителя. И родители. Ну, на друзей и учителей, положим, мне было наплевать. Родителям подростки, вы знаете, тоже не больно стремятся верить. Но Эренбург!.. Я читал его статью и в отчаянии думал: «Что же я за урод такой! Вот даже Эренбург и тот думает не так, как я!» Ему-то я верил, не мог не верить!.. И вот этих моих детских слез я вашему Эренбургу никогда не прощу!
Я не спросил тогда у Шурика, какая статья Эренбурга вызвала у него эти яростные слезы. Не спросил, потому что такую реакцию могла вызвать едва ли не любая его статья. Ведь почти в каждой он защищал официальную советскую идеологию. И защищал не казенным, суконным советским языком, а по-своему, по-эренбурговски: темпераментно, даже страстно, а главное — очень лично. Приводя доводы и соображения, которые заражали своей неопровержимой убедительностью.
Помню, например, его статью, появившуюся в самый пик борьбы за российские приоритеты в науке, — когда «французскую» булочку переименовали в «московскую» и все мы повторяли только что родившуюся остроту: «Россия — родина слонов».
Эренбург, включившись в эту кампанию (статья, кажется, называлась «Некто Бидо»), не стал упирать на то, что Россия — родина таблицы Менделеева, радиотелеграфа (Попов, а не Маркони), парового двигателя (Ползунов, а не Уатт). Не стал особенно упирать и на то, что Ломоносов «одновременно и даже несколько раньше», чем Лавуазье, открыл закон сохранения материи.