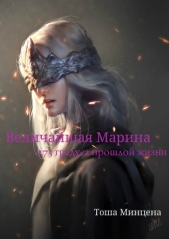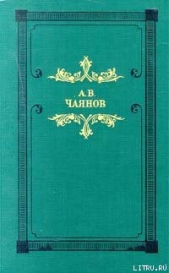Новеллы моей жизни. Том 2

Новеллы моей жизни. Том 2 читать книгу онлайн
В этой книге — как говорила сама Наталия Ильинична Caц — «нет вымысла. Это путешествие по эпизодам одной жизни, с остановками около интересных людей». Путешествие, очень похожее на какой-то фантастический триллер. Выдумать такую удивительную правду могла только сама жизнь.
С именем Н.И.Сац связано становление первого в мире театра для детей. В форме непринужденного рассказа, передающего атмосферу времени, автор рисует портреты выдающихся деятелей искусства, литературы и науки: К.Станиславского, Е.Вахтангова, А.Эйнштейна, А.Толстого, Н.Черкасова, К.Паустовского, Д.Шостаковича, Т.Хренникова, Д.Кабалевского и многих других.
В книге второй Н.И.Сац продолжает повествование о своем жизненном и творческом пути, рассказывает о создании Московского детского музыкального театра и его сегодняшнем дне.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как было бы хорошо закончить главу о Дмитрии Борисовиче этой такой дорогой для меня фразой! Но не могу. Чудо — это он, океан его инициативы и самоотдачи миру детства, в жизнь которого как необходимая составная часть вошла любовь к музыке. Он мечтает, что буква, цифра и нота станут равными составными частями в культуре каждого человека, его высокой грамотности.
Однажды, когда я работала еще в Москонцерте, мы провели в ЦДРИ с ним концерт для юных и потом получили ряд заявок на наш «парный конферанс»… Что-то вроде Тарапуньки и Штепселя — так восприняли некоторые завклубами познавательную музыкальную программу, потому что мы вели ее «на подъеме», радостно. Со словом «концерт-лекция» принято ассоциировать чтение биографических сведений о композиторе по написанному тексту… Какая ерунда! Дмитрий Борисович умеет высекать искры из сердец слушающих музыку. То, что он сейчас делает в школах, трудно переоценить. Он называет себя не учителем пения, а учителем музыки — насколько же это правильнее, объемнее, важнее.
«Вам песня посвящается»
Вы помните эту «Песню о песне» Тихона Хренникова? Она была написана в тридцать пятом, в первый раз зазвучала в спектакле вахтанговцев «Много шума из ничего». Но и сегодня и завтра слова Павла Антокольского, слившись воедино с музыкой Тихона Хренникова, вызывают желание вновь и вновь напевать эту такую прекрасную, искреннюю и мелодичную «Песню о песне».
Весна 1933-го. Я начинаю постановку современной сказки — пьесы «Мик». Мечтаю о новых острых звучаниях, о свежести мелодий и гармоний, о новых ритмах… Леонид Половинкин где-то высмотрел того, кто нам нужен.
— Его фамилия Хренников. Он талантлив — ручаюсь. Но надо его расшевелить.
Расшевелить юного Хренникова было совсем не просто. Он то моргал глазами, то зажмуривал их, а губы не разжимал совсем. Дала ему прочесть пьесу Н. Шестакова, показала макет В. Рындина — он слушал мои режиссерские планы и упорно молчал.
— Так вы хотите писать к нашему спектаклю му-зыку или нет? — спросила я нетерпеливо.
Он пробормотал невнятно «да» и исчез. Я укоризненно посмотрела на Половинкина. Привел!
Помню, как Тихон в первый раз пришел ко мне домой. Меня мучила печень, но когда самые острые приступы утихали, работать, конечно, продолжала. Квартира в Карманицком переулке была у нас хорошая: три комнаты, высокие потолки. Обстановка, правда, случайная — старинный, еще от бабушки, резной стол, диван с высокой спинкой, узкое трюмо, какие часто бывают в приемных зубных врачей, стулья, купленные в разное время. Только пианино «Рениш» — хорошее. Юный композитор вошел в наше жилище, как во дворец, покраснел и — зажмурился. Удивительно симпатичная была у него манера жмуриться, когда он чего-то стеснялся.
Усадила его пить чай. Он ел бутерброды с большим аппетитом, стал немножко разговорчивей:
— Я ведь никогда не писал еще для театра.
Ну что ж, не беда. Надо спокойно, терпеливо поговорить с ним, и не раз, погрузить его в ту творческую атмосферу, которая только по случаю окружала меня чуть не со дня рождения.
— Как… со дня рождения? — удивился Хренников.
Я засмеялась и рассказала ему о своем отце.
Моя болезнь пошла на пользу делу. Погружение молодого композитора в творческую атмосферу происходило ежедневно: играла ему музыку отца, много говорила о нем. Потом стал играть на нашем пианино свою музыку он, а я предваряла каждый фрагмент репликами из пьесы. Мы встречались и втроем — вместе с В. Ф. Рындиным: композитор-студент и художник быстро почувствовали друг к другу большую симпатию, человеческую и творческую.
Ему было неполных двадцать лет, мне тридцать. Доктор велел мне лежать, не двигаясь, но прицепить к пижаме брошку, надеть браслет или длинные «бриллиантовые» серьги, лежа под «тигровым» пледом, было так забавно, когда скромный юноша ощущал мои стекляшки как царскую роскошь!
Теперь я подводила его к существу нашей современной сказки, к пониманию контраста «бархата и лохмотьев» капиталистических стран, в которых не раз уже бывала.
Однажды, когда доктор уже разрешил мне ходить по комнате, я встретила Тихона в бальном платье — блестящем, зеленоватом, со шлейфом, без рукавов, с открытой шеей и спиной, в серебряных туфлях, с блестками на голове и поясе.
Дальнейшая наша беседа шла за столом, я к ней хорошо подготовилась, говорила об идее нашего будущего спектакля, но Тихон Николаевич был не в себе — краснел, бледнел… Не могла же я ему сказать, что мне велено было его «расшевелить». Таких платьев, как на мне, тогда не только в Ельце, но и в Москве не носили. Надо ему все объяснить:
— А мне купили такое, знаете, почему? Наш торгпред вместе с моим мужем ездили в Рим подписывать торговый договор. В начале приема он должен был появиться со своей женой, значит, со мной. Вечером на таком приеме платье должно быть длинное, открытое — вот как это, — иначе не впустят.
Рассказала много такого, что приводило в движение его «творческое колесо» (оно ведь похоже на мельничное) и прямо перекликалось с событиями нашей новой сказки.
Тихон Николаевич смеялся, слушая мой рассказ.
Мое «озорство» с появлением в этот вечер у себя дома в бальном платье пошло на пользу. Когда в этом наряде меня впервые увидел Вадим Рындин, он вдохновился и придумал великолепный костюм для мадам Ехидны. Интересно зазвучал впоследствии этот образ и у композитора — опять же он приписывал это моему платью. Тихон Николаевич и сейчас иногда вспоминает мой вяло-зеленый бальный туалет, сразивший его «на заре туманной юности».
Наивный и милый он тогда был.
Помню, на вопрос, есть ли у него родные в Москве, он ответил:
— Есть сестра, она замужем за профессором.
Я спросила:
— Она красивая?
Тихон совершенно серьезно ответил:
— Этого уже нельзя понять. Она — старая. Ей — двадцать восемь лет.
А мне уже скоро должно было исполниться тридцать. Значит, в его восприятии я уже совершенно дряхлая старуха. Забавно!
Приступ печени кончился. Я возобновила режиссерскую работу в театре. Почти на всех репетициях студент-композитор сидел в задних рядах полутемного зала и — ни с кем ни слова. Его застенчивость и робость никак не предвещали, что он скоро напишет нам хорошую музыку. А между тем репетиции шли неважно. Пьеса нам нравилась по своему идейному замыслу; в ней были интересные, неожиданные ситуации, но живых красок для полноценной характеристики некоторых действующих лиц автору найти не удалось. Роль сторожа зверинца была положительно бесцветной, роль мальчишки Аксолотля написана одной черной краской. Мы затянули работу и боялись, что сорвем уже объявленную премьеру. Многие осуждали меня за ненужное «экспериментаторство», вместо того чтобы обратиться к «уже зарекомендовавшему себя композитору». А я больше всего боялась в своих спектаклях «холодной руки опытного умельца», знала, что подчас от такой музыки со сцены тянет холодком.
Прошло еще немало дней, прежде чем юный композитор, краснея и бледнея, сообщил, что у него многое готово и он просит прослушать его «эскизы» пока меня одну.
Не знаю, кто из нас волновался больше, когда мы шли к роялю. Нотные листочки два раза упали с пюпитра, прежде чем он начал играть. Но странно, как только пальцы Хренникова соприкоснулись с клавишами — робость его куда-то исчезла. Передо мной сидел волевой, темпераментный и, как ни удивительно, вполне зрелый художник.
Как точно подметил молодой композитор небольшой диапазон и «голос с хрипотцой» исполнителя роли сторожа зверинца! Песню, которую он ему написал, надо было произносить на музыке старческим голосом, так она еще больше «брала за живое». С песней сторожа ярко контрастировал марш полицейских. Сколько самодовольства, какие острые ритмы и гармонии. Марш написан в совсем необычном размере — на три четверти. Превосходны были песни мадам Ехидны. Сколько жестокого шика в ее эксцентрических ритмах! Песня Амблистомы — «нежность болотного цветка» (верно, ему тут дали какой-то толчок мои грампластинки — я их тоже для «расшевеливания» использовала). Может быть, ироническое восприятие Люсьен Бойе?! А музыкальная характеристика Аксолотля! Какой умный гротеск! Да, он тоже какой-то угарно-четырехугольный. И страшно и смешно! Вот оно, зерно образа.