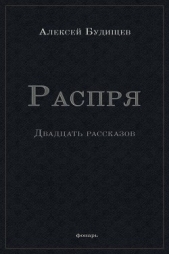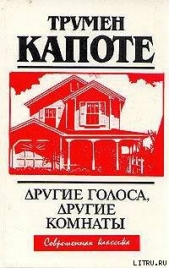Распря с веком. В два голоса
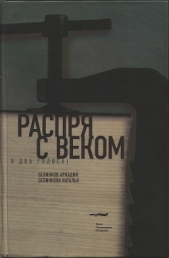
Распря с веком. В два голоса читать книгу онлайн
«Распря с веком» — свидетельство двух человек о творческой жизни писателя Аркадия Белинкова (1921–1970) в советской России и за рубежом. О поворотах в его судьбе: аресте, эмиграции, ранней смерти.
Фрагментами своих опубликованных и неопубликованных книг, письмами и черновиками Аркадий Белинков сам повествует о времени, жертвой и судьей которого он был.
Наталья Белинкова, прибегая к архивным документам и своим воспоминаниям, рассказывает о самоотверженной борьбе писателя за публикацию своих произведений и о его сложных взаимоотношениях с выдающимися людьми нашего недавнего прошлого: Анной Ахматовой, Корнеем Чуковским, Виктором Шкловским и другими.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На следующий год мне опять случилось быть в Лондоне. Моя знакомая, к тому времени уже побывавшая в Москве, разыскала меня и попросила приехать. Я постеснялась отказаться, но ехать мне не особенно хотелось. Я уже по опыту знала, что теперь мы поменяемся ролями. Она с видом знатока будет мне рассказывать о Москве, в которой пробыла самое большее месяц, а я буду задавать наивные, с ее точки зрения, вопросы о стране, в которой прожила всю жизнь. Все же к вечеру того же дня я стучалась в дверь ее квартиры.
Она была одна и провела меня в полупустую комнату с высокими потолками и старинной мебелью. Чувствую себя неуютно. Оглядываюсь. Вдоль стен — книжные корешки за холодными стеклами, в высоких окнах — сумерки. То ли это кабинет, то ли лишняя комната Для гостей. Здесь мы пили кофе. А может быть, чай — Англия все же! Как я и предполагала: вежливые вопросы и вежливые ответы. Время тянулось медленнее, чем обычно. За окнами стало темно. Мне пора было уходить.
«А вот самое главное, из-за чего я позвала Вас», — сказала Лесли, протягивая тяжеловатый сверток. Предполагая, что в свертке находятся — что же еще? — московские сувениры, я его развернула. И время остановилось. Нет, потекло вспять. На коленях у меня лежала необыкновенно знакомая обложка «Методических указаний по выполнению дипломного проекта». Наверху стояло: «Московский полиграфический институт». Я несколько лет работала в издательском отделе этого института, и дома мы пользовались бракованными обложками вместо папок. В серой шероховатой обложке лежала рукопись незавершенной книги Белинкова об Ахматовой. Страницы были неодинаковой длины и защеплены скрепками в тугие пачки. Сухая бумага пожелтела, а скрепки поржавели. На первой же странице набросан план работы: «Подобрать куски… соединить их по плану… отобрать все планы… сделать сводный план… наблюдения над стихом Ахматовой… свести тексты „Величайшие живописцы“ и „Безнравственность, ханжество, растленность“». Если бы не ржавчина, то все выглядело бы так, как будто пачку разрозненных заметок взяли с письменного стола в последней нашей квартире недалеко от Белорусского вокзала. Как будто мы все еще в Москве, никаких архивов на произвол судьбы не бросали и никуда насовсем не уезжали. Но я была в чужом доме, на берегу Темзы. Автора, набросавшего план книги, уже не было в живых.
По святому неведению, не видя ничего нелегального и опасного в том, что делает, провезла девушка эту рукопись через границу? Или, несмотря на страх перед КГБ, совершала подвиг? Я не стала спрашивать, каким образом нашлась рукопись и как ее удалось провезти через таможню. Больше того, я, как могла, изобразила радость по поводу того, что черновик книги об Ахматовой попал в мои руки. Много позже я узнала, что рукопись ей сумела передать Галя Белая (в надежде не вернуться из-за границы в 68-м году Аркадий разбросал свой архив по друзьям).
Как трагично-нелепо, что мы вынуждены были усматривать подвиг в том, что вдове привозят пачку черновиков ее мужа! Какое смятение было во мне! Как все было бессмысленно и жестоко! Толстый пакет, набитый пачками правленых бумажек, требовал, прямо-таки топал ногами, чтобы работа была закончена. Но что мне делать с незаконченными фразами, с отдельными словами, с несведенными текстами, расположенными в порядке, известном только автору. Допустим, я разберусь в рукописи, опубликую ее. Но как знать, какие линии протянулись бы от этих еще не отчеканенных строк? Чем взорвались бы осторожные вопросы, заданные самому себе? В какой форме были бы изложены выводы? Пока что у меня в руках гадкий утенок. Ни жизнь, ни работу умершего писателя продолжить невозможно. Я хорошо помню, как мой муж боялся «несделанных работ».
И я помню, как начиналась книга, от которой остались несделанные куски.
Пятидесятые годы переходили в шестидесятые. Чередовались чаяния и надежды, отчаяние и безнадежность. Взять один только пятьдесят восьмой год. Сняли запрещение на исполнение оперы Шостаковича «Катерина Измайлова». Осудили и начали травить Пастернака. Допустили чтение стихов у памятника Маяковскому. К концу года поэтов разогнали. Пересмотрели ошибки в постановлении ЦК об опере Мурадели «Дружба народов». Не состоялась, хотя, по слухам, и готовилась отмена постановления ЦК о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград». (Слухи оказались дымом без огня — реабилитация в музыке произошла из-за того, что украинский композитор Данкевич — автор оперы «Богдан Хмельницкий», осужденный в свое время вместе с Мурадели, был другом Хрущева.)
В надежде на литературную реабилитацию Анны Ахматовой «Вопросы литературы» поспешили заказать Белинкову соответствующую событию статью. Ахматова! Имя найдено. Вот он, противостоящий системе, победивший художник! Теперь триптих будет завершен.
На письменном столе начали накапливаться стопочки бумаг с цитатами, отдельными фразами, названиями глав: «Об однотемности Ахматовой», «Причины распри Ахматовой с веком». Аркадий начал систематически посещать Анну Андреевну в доме у Ардовых на Ордынке. Сюда он принес первое издание «Юрия Тынянова» с дарственной надписью, ставшей эпиграфом к этой главе. Он ходил к поэту, как ходят на работу, каждый раз отправляясь с большой неохотой.
Он объяснил мне, что неприятное чувство, с которым он идет и возвращается, связано вовсе не с нею, а с ее окружением: «Курят фимиам и не дают поговорить серьезно». Сейчас я бы извинила тех, кто курил фимиам. Поэту воздавали должное за его высокий, смелый дар и винились за долгие годы его молчанья и страданий.
С самого начала Аркадию показалось, что в Анне Андреевне он нашел единомышленника, что оба даже мыслили в одном ключе и говорили одинаковыми словами: не «кризис» и «генезис» литературных направлений, как это было принято у литературоведов: а «смерть» символизма и «рождение» акмеизма, говорили они, — и он не мог не вспоминать свое «необарокко».
Однажды он взял меня с собой.
На пороге типичной московской квартиры нас встретила не гибкая гитана, а полная пожилая женщина. Ласково поздоровавшись, она повела нас по узкому коридору. Ее поступь была величавой, но шаги были тяжелыми, как у людей с давним сердечным заболеванием. Не классическая шаль спускалась с ее плеч, а широкое выцветшее платье лилового цвета, на котором аккуратными квадратиками красовались две заплаты. Они были заметны, несмотря на то, что были выкроены из того же материала, что и платье. Поношенный этот наряд скалывала на груди огромная, царственной красоты гранатовая брошь. Лицо женщины было большим, бледным, одутловатым и красивым. Челки, столько раз воспетой, не было. Седые пушистые пряди волос были зачесаны назад и заколоты на затылке. Ей трудно дышалось, но голова была гордо откинута, и вся она, вопреки явному нездоровью, наперекор очевидной и постоянной бедности являла царственной персоны портрет. На ее волнистых седых волосах как будто возлежала блистательная корона. Только вот царство было расхищено. А мы выступали в качестве подданных разграбленного королевства, сопричастных судьбе редких, упрямых, как и она, поэтов-современников. Но нам сожалеть, а им — страдать.
Коридор заканчивался гостиной, где, по-видимому совсем недавно, были люди и пили чай. Сейчас на круглом столе посередине комнаты стояли остывшие чашки. Анна Андреевна свернула в маленькую комнатку справа. В ней еле-еле помещались узкая кровать, столик у окна и стул. В переднем углу — икона. На голой стене над кроватью известный портрет поэтессы, сделанный рукой Модильяни. Он как бы напоминал, с кем мы сейчас разговариваем. Но и без того Ахматова Серебряного века с неотвратимостью дневного света проступала через теперешнюю.
Если гостей в комнате было больше одного, то кому-то приходилось сидеть на кровати вместе с Анной Андреевной. В этот раз рядом с ней устроилась я. Аркадий расположился на жестком стуле напротив. Было так тесно, что мы все почти касались друг друга. Сидя, Анна Андреевна опиралась ладонями на свои колени. Таким образом она поддерживала свое тучное тело. Заплаты приходились на уровне колен.