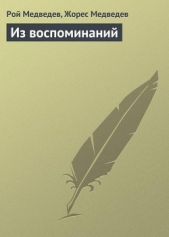О, мед воспоминаний

О, мед воспоминаний читать книгу онлайн
Дом свой мы зовем „голубятней". Это наш первый совместный очаг. Голубятне повезло: здесь написана пьеса „Дни Турбиных", фантастические повести „Роковые яйца" и „Собачье сердце" (кстати, посвященное мне). Но все это будет позже, а пока Михаил Афанасьевич работает фельетонистом в газете „Гудок". Он берет мой маленький чемодан по прозванью „щенок" (мы любим прозвища) и уходит в редакцию. Домой в „щенке" приносит он читательские письма — частных лиц и рабкоров. Часто вечером мы их читаем вслух и отбираем наиболее интересные для фельетона. Невольно вспоминается один из случайных сюжетов. Как-то на строительстве понадобилась для забивки свай копровая баба. Требование направили в главную организацию, а оттуда — на удивленье всем — в распоряжение старшего инженера прислали жену рабочего Капрова. Это вместо копровой-то бабы!"
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все прошли в комнату и сели. Арендатор развалясь на кресле, в центре. Личность это была примечательная, на язык несдержанная, особенно после рюмки-другой…
Молчание. Но длилось оно, к сожалению, недолго.
— А вы не слыхали анекдота, — начал арендатор… („Пронеси, господи!" — подумала я).
— Стоит еврей на Лубянской площади, а прохожий его спрашивает: „Не знаете ли вы, где тут Госстрах?"
— Госстрах не знаю, а госужас вот…
Раскатисто смеется сам рассказчик. Я бледно улыбаюсь. Славкин и его помощник безмолвствуют. Опять молчание — и вдруг знакомый стук.
Я бросилась открывать и сказала шопотом М. А.:
— Ты не волнуйся, Мака, у нас обыск.
Но он держался молодцом (дергаться он начал значительно позже). Славкин занялся книжными полками. „Пенсне" стало переворачивать кресла и колоть их длинной спицей.
И тут случилось неожиданное. М. А. сказал:
— Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю. (Кресла были куплены мной на складе бесхозной мебели по 3 р. 50 коп. за штуку).
И на нас обоих напал смех. Может быть, и нервный. Под утро зевающий арендатор спросил:
— А почему бы вам, товарищи, не перенести ваши операции на дневные часы!
Ему никто не ответил… Найдя на полке „Собачье сердце" и дневниковые записи, „гости" тотчас же уехали.
По настоянию Горького, приблизительно через два года „Собачье сердце" было возвращено автору…
Однажды на голубятне появилось двое — оба высоких, оба очень разных. Один из них молодой, другой значительно старше. У молодого брюнета были темные дремучие глаза, острые черты и высокомерное выражение лица. Держался он сутуловато (так обычно держатся слабогрудые, склонные к туберкулезу люди). Трудно было определить его национальность: грузин, еврей, румын — а, может быть, венгр? Второй был одет в мундир тогдашних лет — в толстовку — и походил на умного инженера.
Оба оказались из Вахтанговского театра. Помоложе — актер Василий Васильевич Куза (впоследствии погибший в бомбежку в первые дни войны); постарше — режиссер Алексей Дмитриевич Попов. Они предложили М. А. написать комедию для театра.
Позже, просматривая как-то отдел происшествий в вечерней „Красной газете" (тогда существовал таковой), М. А. натолкнулся на заметку о том, как милиция раскрыла карточный притон, действующий под видом пошивочной мастерской в квартире некой Зои Буяльской. Так возникла отправная идея комедии „Зойкина квартира". Все остальное в пьесе — интрига, типы, ситуация — чистая фантазия автора, в которой с большим блеском проявились его талант и органическое чувство сцены. Пьеса была поставлена режиссером Алексеем Дмитриевичем Поповым 28 октября 1926 года.
Декорации писал недавно умерший художник Сергей Петрович Исаков. Надо отдать справедливость актерам — играли они с большим подъемом. Конечно, на фоне положительных персонажей, которыми была перенасыщена советская сцена тех лет, играть отрицательных было очень увлекательно (у порока, как известно, больше сценических красок!). Отрицательными здесь были все: Зойка, деловая, разбитная хозяйка квартиры, под маркой швейной мастерской открывшая дом свиданий (Ц. Л. Мансурова), кузен ее Аметистов, обаятельный авантюрист и веселый человек, случайно прибившийся к легкому Зойкиному хлебу (Рубен Симонов). Он будто с трамплина взлетал и садился верхом на пианино, выдумывал целый каскад трюков, смешивших публику; дворянин Обольянинов, Зойкин возлюбленный, белая ворона среди нэпманской накипи, но безнадежно увязший в этой порочной среде (А. Козловский), председатель домкома Аллилуйя, „Око недреманное", пьяница и взяточник (Б. Захава).
Хороши были китайцы из соседней прачечной (Толчанов и Горюнов), убившие и ограбившие богатого нэпмана Гуся. Не отставала от них в выразительности и горничная (В. Попова), простонародный говорок которой как нельзя лучше подходил к этому образу.
Конечно, всех их в финале разоблачают представители МУРа.
Вот уж, подлинно можно сказать, что в этой пьесе голубых ролей не было! Она пользовалась большим успехом и шла два с лишним года. Положив руку на сердце, не могу понять, в чем ее криминал, почему ее запретили.
Вспоминается кроме актерской игры необыкновенно удачно воссозданный городской шум, врывающийся в широко раскрытое окно квартиры, а попутно на память приходит и небольшой слегка комический штрих.
Несколько первых публичных репетиций Мансурова играла почти без грима, но затем режиссер А. Д. Попов потребовал изменить ее внешность. Был налеплен нос (к немалому огорчению актрисы). Хоть это и звучит смешно, но нос „уточкой" как-то углубил комедийность образа. По-видимому, такого результата и добивался режиссер.
„Думая сейчас о том, почему спектакль подвергся такой жестокой критике, — пишет в своей книге „Вся жизнь" (Всероссийское театральное общество, М., 1967, стр. 426), режиссер и актриса МХАТ М. Кнебель, — я прихожу к убеждению, что одной из причин этого был сам жанр, вернее — непривычность его". Это один ее довод, а вот второй: актриса Вахтанговского театра А. А. Орочко своей игрой переключила отрицательный образ (Алла) на положительное звучание. И сделала это так выразительно, что способствовала будто бы этим снятию пьесы. Это, конечно, неверно.
Я, например, да и многие мои друзья, Орочко в этой роли вообще не помним.
Впоследствии А.Д. Попов от своей постановки „Зойкиной квартиры" отрекся. „Отречение режиссера — дань времени," — говорит Кнебель. Она не договаривает: дань времени — это остракизм, пока еще не полный, которому подвергнется творчество Михаила Афанасьевича Булгакова.
ЧТЕНИЕ У ЛЯМИНЫХ
К 1925 году относится знакомство М. А., а затем и длительная дружба с Николаем Николаевичем Ляминым. Вот сборник „Дьяволиада" („Недра", 1925 г.) с трогательной надписью: „Настоящему моему лучшему другу Николаю Николаевичу Лямину. Михаил Булгаков, 1925 г., 18 июля, Москва". Познакомились они у писателя Сергея Сергеевича Заяицкого, где Булгаков читал отрывки из „Белой гвардии". В дальнейшем все или почти все, что было им написано, он читал у Ляминых (Николая Николаевича и жены его художницы Наталии Абрамовны Ушаковой): „Белую гвардию" (отрывки), „Роковые яйца", „Собачье сердце", „Зойкину квартиру", „Багровый остров", „Мольера", „Консультанта с копытом", легшего в основу романа „Мастер и Маргарита".
Мне он сказал перед первым чтением, что слушать его будут люди „высокой квалификации" (я еще не была вхожа в этот дом). Такое выражение, совершенно не свойственное М. А., заставило меня особенно внимательно приглядываться к слушателям.
Помню остроумного и веселого Сергея Сергеевича Заяицкого; громогласного Федора Александровича Петровского, филолога-античника, преподавателя римской литературы в МГУ; Сергея Васильевича Шервинского, поэта и переводчика; режиссера и переводчика Владимира Эмильевича Морица и его обаятельную жену Александру Сергеевну. Бывали там искусствоведы Андрей Александрович Губер, Борис Валентинович Шапошников, Александр Георгиевич Габричевский, позже член-корреспондент Академии архитектуры; писатель Владимир Николаевич Владимиров (Долгорукий), переводчик и наш „придворный" поэт; Николай Николаевич Волков, философ и художник; Всеволод Михайлович Авилов, сын писательницы Лидии Авиловой (о которой так восторженно отзывался в своих воспоминаниях И. А. Бунин). По просьбе аудитории В.М.Авилов неизменно читал детские стихи про лягушечку.
Вспоминается мне и некрасивое, чисто русское, даже простоватое, но бесконечно милое лицо Анны Ильиничны Толстой. Один писатель в своих „Литературных воспоминаниях" (и видел-то он ее всего один раз!) отдал дань шаблону: раз внучка Льва Толстого, значит высокий лоб; раз графиня, значит маленькие аристократические руки. Как раз наоборот: лоб низкий, руки большие, мужские, но красивой формы. М. А. говорил о ее внешности „вылитый дедушка, не хватает только бороды". Иногда Анна Ильинична приезжала с гитарой. Много слышала я разных исполнительниц романсов и старинных песен, но так, как пела наша Ануша, — никто не пел! Я теперь всегда выключаю радио, когда звучит, например, „Калитка" в современном исполнении. Мне делается неловко. А. И. пела очень просто, но как будто голосом ласкала слова. Получалось как-то особенно задушевно. Да это и немудрено: в толстовском доме любили песню. До 16 лет Анна Ильинична жила в Ясной. Любил ее пение и Лев Николаевич. Особенно полюбилась ему песня „Весна идет, манит, зовет", — так мне рассказывала Анна Ильинична, с которой я очень дружила. Рядом с ней ее муж: логик, философ, литературовед Павел Сергеевич Попов, впоследствии подружившийся с М. А. Иногда ей аккомпанировал Николай Петрович Шереметьев (симпатичный человек), иногда художник Сергей Сергеевич Топленинов, а чаще она сама перебирала струны.