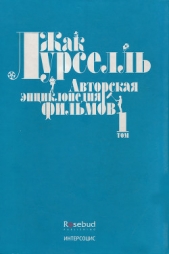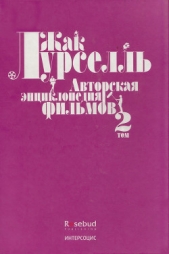Кино и все остальное
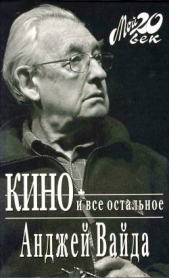
Кино и все остальное читать книгу онлайн
Фильмы и театральные постановки польского режиссера Анджея Вайды вошли в золотой фонд мировой культуры. «Канал», «Пепел и алмаз», «Всё на продажу» стали началом нового кинематографа Польши. Ф. М. Достоевский занимает особое место в его творчестве — на многих сценах мира, в том числе на сцене «Современника», он поставил «Бесов».
Фото на суперобложке Виктора Сенцова.
Издательство благодарит Кристину Захватович, Анджея Вайду и Ирину Рубанову, а также краковское издательство «Znak» и Московский театр «Современник» за предоставленные фотографии.
Перевод с польского И. Рубановой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В результате долгого переговорного процесса было установлено, что председателя могут сопровождать два человека: секретарь и водитель. Было ясно, что мне нельзя рассчитывать на место секретаря, потому что, естественно, оно закреплено за профессором Геремеком. Тогда я ухватился за идею стать шофером Валенсы. У меня имелись водительские права, я был совершенно трезв и я знал дорогу на улицу Воронича, где расположено телевидение. Увы! Моя радость была недолгой. Когда адвокат Амброзяк поставил в известность своих переговорщиков с телевидения, кто приедет с Валенсой, последовала незамедлительная реакция — НЕТ!
С головой у меня, в общем, все в порядке, до этого момента я никому не навязывался в качестве персонального водителя. Однако в те времена Лех Валенса был не только нашим руководителем, но и нашей надеждой. Я знал, что он смотрел мои фильмы, его случайное и хаотическое образование было результатом усилий многих польских интеллектуалов. То есть Лех был нашим голосом, а мы чувствовали себя как бы немножко пигмалионами, восхищающимися своим творением. Наверное, позже мы оттого так разочаровались, что наша Галатея вдруг заговорила своим голосом. Если бы польская интеллигенция, как хотели бы нынешние крайне правые, отказалась после 1945 года сотрудничать с властью, Валенса остался бы полуграмотным, а нами правил бы сегодня Лукашенко.
Дебаты Валенса — Мёдович я смотрел в помещении секретариата Епископата с целой группой советников, к которым вечером присоединились Яцек Куронь и Адам Михник. Вален-са был в ударе. И хотя ничего из моих предложений, кроме часов, смешно воткнутых между собеседниками, не было сделано, я чувствовал себя счастливым. Наш вождь говорил своим голосом, следовал своему понимаю вещей и победил Мёдовича сидя, хотя я требовал, чтобы он боролся стоя.
Нас охватил энтузиазм, к моменту, когда герой вечера вернулся с телевидения, наша эйфория достигла своего пика, были выпиты многочисленные брудершафты (ксёндз Оршулик перешел на «ты» с Адамом Михником), я же в который раз убедился в том, как немного значит режиссура, потому что все решает актер. Он нас не разочаровал.
От тех, кто с другой стороны готовил эти исторические дебаты, недавно я узнал, что Мёдович сам был во всем виноват. Генерал Ярузельский решительно возражал против идеи телевизионной дискуссии. Чересчур самоуверенный председатель «старых» профсоюзов настоял, однако, на своем, но это выступление оказалось последним его show, с телевидением он распрощался навсегда.
Мой дядя Густав Вайда, имевший привычку рассказывать всегда самые глупые анекдоты и громче всех над ними смеявшийся, держал в своем постоянном «репертуаре» анекдот о служанке, пришедшей регистрироваться в полицию. Чиновник спрашивает, девица ли она. — «Девица, не девица, пиши «девица». Вот и я, был ли я шофером Валенсы или не был, а пишу, что был, потому что поддерживал его во всем, будучи убежден, что только рабочий может противостоять «рабочей власти» и бороться с нею до самого ее падения, а нам, интеллигентам, в этой борьбе отведена лишь вспомогательная роль.
Об этом я знал давно по своему опыту: сценарий «Человека из мрамора» ждал реализации целых 12 лет, потому что его героем был рабочий, который сопротивляется «своей» власти. А тот факт, что фильм все-таки увидел свет, — результат лживости этой власти, считавшей, что не теряя лица, она может разговаривать только с рабочим, но, оказывается, не может, хотя, по-видимому, очень бы хотела дискутировать, к примеру, с Тадеушем Мазовецким [84].
3 марта 1999
«О год этот»… — высказывания Леха Валенса 1989 года из «Газеты Выборчей»:
«Такой президент, о котором говорил господин генерал, был бы, наверное, пожизненным. Он мог бы уйти только путем расстрела». Можно что угодно говорить о «круглом столе», но за этими словами стоит лидер, осознающий, с кем и о чем он говорит. Только рабочий Валенса за этим столом мог так говорить и так быть услышанным.
Без цензуры и без зрителей
…Странные вещи начали происходить в нашем городе.
Некая дама возжелала свободной любви со своим мужем, а когда ей сказали, что это невозможно, воскликнула: «Как невозможно? Ведь мы же свободны!». В самом деле мы были свободны. Но от чего?
Когда в 1958 году «Пепел и алмаз» вышел на экраны, казалось, что коммунистическая цензура помягчала. Любая идеология пользуется словами, поэтому и цензура в странах тоталитарного строя контролирует в кино прежде всего диалоги. Но в моем фильме не слова были главным. Искусство образа способно сказать зрителям куда больше, чем слова.
Возьмем для примера последнюю сцену «Пепла и алмаза» — смерть Мацека Хелмицкого на мусорной свалке. Как понимал ее цензор 1958 года? «Вот заслуженный конец каждого, кто поднимет руку на народную власть». Но было и другое восприятие. Симпатичный паренек в темных очках: плохое зрение — результат долгого пребывания в каналах во время Варшавского восстания, о чем он вспоминает мимоходом как о любви без взаимности к отчизне. Этот парень гибнет от польской пули. Гибнет, потому что для него нет места в бесчеловечной системе, выбрасывающей его на свалку.
Так по-разному смотрели этот фильм, и на эту двойственность опиралась наша борьба с цензурой. Внешняя цензура — это цензура, которую принудительно осуществляют разные институты, призванные для поддержания в стране так называемых спокойствия и порядка, в особенности она чувствует себя обязанной бдить по отношению к продукции, созданной, как говорится, на государственные деньги. Беседуя с французскими журналистами, я вынужден был не раз и не два объяснять им механизм действия политической цензуры в Польше, как если бы я сам был ее функционером, а не жертвой. Но в свою очередь никто из них не в состоянии был ответить мне на вопрос, почему во Франции, где нет цензуры, не были сняты фильмы на острые социальные и политические темы, такие, например, как война в Алжире или парижский май 1968 года. Не заменяет ли здесь так успешно внутренняя цензура цензуру политическую?
Год за годом, снимая свои фильмы, я вынужден был подчиняться цензуре; на счастье, кино — это образ, а точнее сказать, нечто возникающее от взаимодействия звука и изображения, что и есть на самом деле истинная душа кино. Да, из «Пепла и алмаза» можно вырезать отдельные слова или даже фразы, но нельзя подвергнуть цензуре игру Збышека Цибульского. А ведь именно в его способе поведения таилось то «нечто», что в те годы было политической крамолой: свобода паренька в темных очках по отношению к действительности, которая этой свободы никак не предполагала. Так же и с «Человеком из мрамора». Этот фильм вообще не должен был возникнуть, а посему — что могли тут изменить отдельные поправки и изъятия?
Главная проблема для режиссера-постановщика политических фильмов состоит не в том, соглашаться или не соглашаться с действиями цензора, а в том, чтобы снять такую картину, вмешательство цензуры в которую не исказило бы ее звучания. Подвергать цензуре можно только то, что вмещает в себя воображение цензора; по-настоящему оригинальный замысел выбивает у них ножницы из рук. Правда, всегда оставалась возможность отправить фильм на полку, но год от года эта процедура становилась для них все более затруднительной.
Под конец 80-х годов я почти каждый вечер ходил в кино. Фильмы мало чем отличались друг от друга. Они забывались, едва только в зале зажигался свет, это позволяло идти на следующий, не обременяя себя мыслью об оценках и каких-либо сопоставлениях. Меня занимала публика. Интеллигентных зрителей выдуло из зала первыми ветрами военного положения, вместо них в кинотеатры пришли совсем другие зрители, в первую очередь те, кого околдовал «Монастырь Шаолин». С точки зрения политических властей это был прекрасный ход. Из кинозалов исчез зритель, заинтересованный политическими фильмами; с тех пор он постарел и, отвращенный новым репертуаром, остался дома перед телевизором, приговоренный к программе, подвергающейся еще более жесткому контролю, чем кинорепертуар.