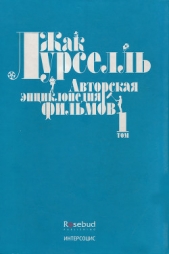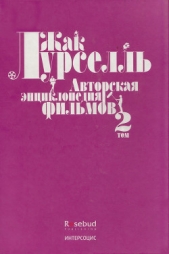Кино и все остальное
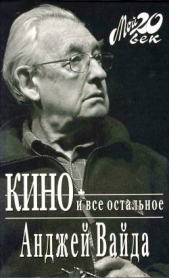
Кино и все остальное читать книгу онлайн
Фильмы и театральные постановки польского режиссера Анджея Вайды вошли в золотой фонд мировой культуры. «Канал», «Пепел и алмаз», «Всё на продажу» стали началом нового кинематографа Польши. Ф. М. Достоевский занимает особое место в его творчестве — на многих сценах мира, в том числе на сцене «Современника», он поставил «Бесов».
Фото на суперобложке Виктора Сенцова.
Издательство благодарит Кристину Захватович, Анджея Вайду и Ирину Рубанову, а также краковское издательство «Znak» и Московский театр «Современник» за предоставленные фотографии.
Перевод с польского И. Рубановой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда победила «Солидарность», я верил, что вместе с ней победили разум и правда, поскольку тот строй был сплошной ложью. Теперь лучшие люди смогут сказать то, что они имеют сказать, тогда как в прошлом преимущество отдавалось тем, кто носил в кармане красный партбилет. Наконец, думал я, вспомнят об общем деле — Польше, ведь нам всем нужна сильная отчизна. Ничем не ограниченная инициатива распространится на все области жизни, поскольку ее отсутствие было результатом насилия советской системы.
Вместо Польши всех поляков, преградой которой, как я тогда считал, в течение почти полувека была Советская Россия, я увидел резко поделенную, погрязшую в вечных сварах страну. За кого голосует сегодня Кран, я не имею понятия. Наша солидаристская конспирация была веселая и достаточно открытая. Та другая смертельно серьезная и глубоко запрятанная, и, что самое важное, абсолютно здешняя, местная, не нуждающаяся ни в каком Алганове в качестве советника [81].
Когда я слышу в кинотеатре гогот в ответ на каждое грубое слово, глуповатые смешки как реакцию на фразу, только наполовину понятую зрителями, я размышляю о важной перемене, которая произошла в моем сознании с 1981 года. До этого времени я думал о польском обществе солидарно как один из граждан этой страны. Разумеется, я знал, что оно расслоено, но факт, что столько людей хочет смотреть мои фильмы, подсказывал мне, что в Польше многие думают, как я. А если случается по-другому, то виновата система, которая сфальсифицировала школьные учебники, вечно врет в газетах, радио и телевидении, промывает обществу мозги, а оно, общество, жаждет свободы и правды. Сегодня у меня этих иллюзий больше нет.
В парламенте, избранном в июне 1989 года в ситуации полу-зависимости от коммунистов, собралось много интеллектуалов и художников, людей серьезных и уравновешенных. В стране создавались гражданские комитеты, крепкая и здоровая сила, которая складывалась из интеллигентов, прежде выдавливаемых партией на обочину общественной жизни. Вместе мы образовывали мощное движение, которое было таковым до момента, когда Лех Валенса испугался, что оно может выйти из-под его контроля, и затеял известную «войну в верхах».
Ее первый удар был для меня чрезвычайно болезненным. В качестве сенатора от сувальской земли я принимал избирателей по понедельникам в своем кабинете на ул. Костюшко. Приходили разные люди: милиционеры, преобразованные в полицейских, работники Национального парка над Виграми, крестьяне со своими заботами и дирекция местной мебельной фабрики, лишившейся возможности экспортировать свою продукцию в СССР. Я внимательно выслушивал их жалобы, ведь я был их представителем, их голосом в Варшаве.
Но в тот день с девяти утра в нашем офисе царила мертвая тишина, до четырнадцати не появился ни один посетитель. Из телевизионных новостей все знали, что Лех Валенса объявляет войну в верхах… И только я один ни о чем таком не слышал. У меня никогда не было радио в машине, и, приехав накануне вечером в Сувалки, я не имел ни малейшего представления о том, что произошло.
В тот день я увидел, кто действительно правит в этой стране. Немного позже, когда у «Газеты Выборчей», а потом у гражданских комитетов отняли символику «Солидарности», я узнал и еще кое-что. Профсоюзные деятели, не включенные в избирательные списки в пользу «советников», имена которых были хорошо известны, что давало «Солидарности» шанс войти в парламент (выборы были назначены так скоропалительно, что времени на развернутую избирательную кампанию попросту не было), почувствовали себя вытесненными на обочину. Опасаясь, что их роль подвергнется ограничению, они воспользовались авторитетом нашего вожака, который тогда впервые потерял четкую линию поведения.
Я надеюсь, что добрый Господь Бог никогда не простит Леху этот шаг. Если бы тогда он оставил профобъединение и встал во главе объединенных гражданских комитетов, он оставался бы президентом и на следующий срок, а знак «Солидарности» в сознании людей сочетался бы с его именем и естественным образом соединился бы с комитетами, которые имели возможность ускорить социальные и экономические перемены в нашей стране.
К сожалению, вместо того чтобы разговаривать и договариваться, обе стороны вошли в конфликт. До какой же степени надо быть слепым, чтобы не замечать силы коммунистов и недооценивать их роли? — вопрошала наша сторона. Как можно пустить во власть под знаменами «Солидарности» людей, которые вчера ничего не сделали, чтобы забастовки на больших предприятиях победили? — задавали вопрос профсоюзники.
Этот момент надолго определил польскую судьбу и столкнул нас в трясину популизма. Очень быстро оказалось, что культура больше необязательна, как всегда это было в трудные моменты истории нашей страны, а состав нового сейма говорил сам за себя. Разумеется, можно посчитать, что общество, в котором только 7 % людей имеют высшее образование, не может выдвинуть других представителей, но даже в эпоху разделов, когда процент образованных был еще ниже, интеллигенция играла гораздо более значительную роль.
Вернусь еще ненадолго к той дате — 13 декабря 1981 года. После этого дня потянулись недели, месяцы и годы пустых разговоров, безнадежных попыток добиться согласия на каждый шаг. Партия достигла своей настоящей цели: она контролировала буквально все, но, лишив общество какой бы то ни было инициативы, сама копала себе могилу. Постепенно замирали производство и торговля, культурная жизнь сократилась до минимума. Я уже начал сомневаться, что этому когда-нибудь придет конец. У меня самого пропало желание работать, а мои новые фильмы, независимо от того, на какую тему они были сделаны, потеряли энергию, которая присутствовала в большинстве картин, сделанных мною раньше. Утратив веру в себя и публику, я чувствовал только пустоту и усталость.
В 1985 году, вскоре после того как я поставил в костеле на Житной улице «Вечерю» Брылля, я получил приглашение на Конгресс по правам человека, который должен был состояться в Париже под патронатом ЮНЕСКО. Я отправил нашему послу во Франции письмо, в котором объяснял причины, по которым не буду участвовать в работе Конгресса. Это письмо неплохо отражает настроение той поры:
«Защитой прав человека занимается целый ряд созданных для этой цели официальных организаций — ООН, ЮНЕСКО и т. п. — к сожалению, их существование и деятельность только дезорганизуют общественное мнение. Например, я хочу поставить «Антигону» в Театре Габима в Тель-Авиве. Власти запрещают мне это делать на основании решения ЮНЕСКО, потому что Польша голосовала за бойкот Израиля. Но меня никто не спрашивал о моем мнении на этот счет и никто не согласовывал со мной кандидатуру нашего представителя в этой организации.
Я хочу снять фильм по книжке, в которой собраны документы об уничтожении евреев во время оккупации. Власти говорят: «Нет, нельзя, это антипольская книга». И снова меня не спрашивают, считаю ли я эту вещь антипольской и что вообще может означать это понятие.
Я сделал прапремьеру новой польской пьесы в костеле. Она прошла полтора десятка раз. Автора уволили с работы, актеров постоянно вызывают на допросы; требуют, чтобы они выбрали себе мецената — государство или церковь. Но ведь государство не нанимает актера исключительно для себя, в его контракте нигде не написано, что государство оплачивает его взгляды и душу! А спектакль репетировался и игрался сверхурочно, вне часов работы театров. И так на каждом шагу, и ждать защиты неоткуда, поскольку купленная интеллигенция постоянно информирует мир о стабилизации, разоружении и доброй воле обеих сторон.
А что бы произошло, если бы я выступил на Конгрессе и огласил эти факты? Скорее всего ничего, если говорить о мире, но тут, в своей стране, я вынужден был бы распроститься с фильмом, который как раз начал снимать. Разумеется, я мог бы превратиться в правозащитника-художника, но в таком случае меня ждут или эмиграция, или пенсия, а ни к одному из этих решений я еще не готов.
Возможно, мое письмо написано несколько иронично, но такова наша действительность, как еще о ней скажешь? Мне вспоминается вопрос Сталина, когда ему сообщили, что Святой Отец выразил протест по какому-то там вопросу международной жизни:
— А сколько у Папы дивизий?
А сколько ракет (и каких) имеет на своем вооружении Конгресс защиты прав человека?
Полагаю, что на этот раз Вы признаете мое неприсутствие оправданным. Постараюсь оправдать Ваше доверие в будущем».