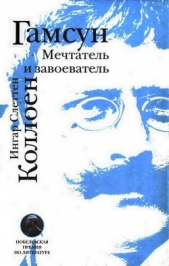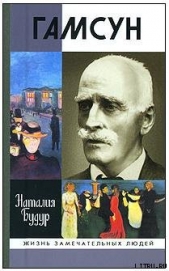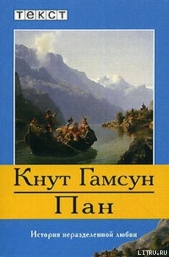Спустя вечность

Спустя вечность читать книгу онлайн
Норвежский художник Туре Гамсун (1912–1995) широко известен не только как замечательный живописец и иллюстратор, но и как автор книг о Кнуте Гамсуне: «Кнут Гамсун» (1959), «Кнут Гамсун — мой отец» (1976).
Автобиография «Спустя вечность» (1990) завершает его воспоминания.
Это рассказ о судьбе, размышления о всей жизни, где были и творческие удачи, и горести, и ошибки, и суровая расплата за эти ошибки, в частности, тюремное заключение. Литературные портреты близких и друзей, портреты учителей, портреты личностей, уже ставших достоянием мировой истории, — в контексте трагической эпохи фашистской оккупации. Но в первую очередь — это книга любящего сына, которая добавляет новые штрихи к портрету Кнута Гамсуна.
На русском языке публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Лян, Норвегия. 4 марта.Во-первых никакого офорта с моего портрета существовать не может, поскольку ты не приезжал и не рисовал меня. Во-вторых, мне неприятно, по-настоящему неприятно, что ты спрашиваешь меня об этом, ведь я понимаю, что решать все тебе.
Дорогой друг, позволь лучше мне приобрести эту пластинку. Она не дешевая, и я не располагаю такими средствами, но я тоже дал бы тебе за нее триста марок. Я человек порядочный и выплачу тебе эти деньги, только не сейчас, а по частям. Я надеюсь заработать на следующей книге. И тогда я уничтожу эту пластинку.
В Париже ты найдешь много писателей, с которых можно сделать офорт для „Пана“. Я не самая привлекательная модель для публики.
Но в любом случае спасибо тебе за добрую дружбу.
К счастью, все кончилось иначе. Медная пластинка в конце концов попала в художественный журнал «Пан». Но оттиска мой отец так и не получил.
Возможно, Мунк оскорбился, получив такое неслыханное предложение — уничтожить созданное им художественное произведение из-за каких-то мелких неточностей. Ну а с другой стороны, в любой сделке скрупулезная порядочность была для отца самым главным и, думаю, что именно тогда их пути разошлись.
Эдвард Мунк открывает дверь. Я раньше никогда не видел его, знал только по автопортретам и фотографиям.
Высокий, худой, седой, он стоял совершенно неподвижно и изучал меня, а челюсти его двигались, словно он что-то жевал или пробовал на вкус. Я назвался, он кивнул несколько раз, протянул мне руку и провел из передней в большую мастерскую, похожую на гостиную.
— В настоящее время я работаю здесь, — сказал он.
Я остановился и огляделся. Потолки в этой старинной швейцарской вилле были очень высокие. В комнате царил беспорядок, было не особенно чисто и обстановка не свидетельствовала о вкусе. Меня это не удивило, Гоген говорил мне об этом, я должен был соблюдать осторожность, чтобы не наступить на тюбики с краской, разбросанные повсюду. Шедевр, которого я никогда раньше не видел, висел в раме на стене под самым потолком. На полу стояли картины, прислоненные к стене, часть их была разложена на полу, некоторые были на подрамниках, другие свернуты трубкой и испачканы краской.
Передо мной стоял старый человек. Сегодня я смотрю на автопортрет, который он написал в том году и который называется «Между часами и кроватью». Он стоит, словно статуя, совсем как тогда, когда встречал меня тем летним днем пятьдесят лет назад.
Осторожно, мелкими скованными шажками он подошел к шкафу, открыл его, заглянул внутрь и снова закрыл. Мы сели.
Он ни слова не сказал о беспорядке в комнате. Да и почему он должен был что-то говорить, если ему так нравилось. Внятно, как мог, я объяснил Мунку, что меня прислали его коллеги Турстейнсон, Гоген и Револл, чтобы сообщить ему о положении, в каком оказалось норвежское изобразительное искусство. Одни совершенно запутались в политике, а некоторые новички поддерживают немцев, стремящихся ввести «новый порядок» в искусстве. Я прямо спросил у Мунка, не поддержит ли он своим именем недавно организованное Объединение представителей изобразительного искусства.
Мунк сделал отрицательный жест.
— Я не хочу вмешиваться ни во что, в чем участвуют немцы и НС!
— Тут как раз наоборот, если бы вы поддержали…
Он прервал меня:
— А Сёрен в этом участвует?
— Нет, — ответил я. — Хенрик Сёренсен, конечно, против планов немцев и, по правде сказать, я не думаю, что НС так уж нравятся изменения, которые поддерживают новые художники.
— А что говорит ваш отец?
Мунку, вероятно, было интересно, что отец думает по тому или иному поводу, и я сказал то, что было чистой правдой: отец никогда не стал бы поддерживать принуждение в искусстве. Мунк кивнул и больше уже не хотел ничего слушать о моем деле.
— Немцы все равно поступят так, как хотят!
Но к теме «Гамсун» он проявил любопытство и живо заговорил о том, что читал последним, об Августе он говорил с улыбкой, как о давнем знакомом.
— У вашего отца есть мои картины? — неожиданно спросил он.
Мне пришлось ответить, что, к сожалению, нет, но что мне лично очень хотелось бы купить офорт, сделанный в 1896 году. Он покачал головой.
— У меня его нет. Я уже давно продал и пластинку и оттиски.
Во время нашего разговора Мунк часто перепрыгивал с одной темы на другую. Он говорил быстро, а его челюсти все время нервно шевелились, как будто он что-то жевал. Я отметил стаккато в его тоне, когда он говорил о немцах, они ему и нравились и не нравились. Я рассказал ему, что когда жил в Берлине, был знаком с искусствоведом Карлом Шеффлером. У него я видел графику Мунка и даже одно личное письмо, иллюстрированное акварелью, которое Шеффлер вставил в рамку и повесил на стену.
— Да, — сказал Мунк, — я помню Шеффлера. Он был еврей?
Я его успокоил — Шеффлер не был евреем. Тогда Мунк сказал, что его раздражает «этот неожиданный антисемитизм». Он хорошо относится к евреям. Они ему позировали и покупали его картины, когда в Норвегии его не признавали.
Но вообще у меня создалось впечатление, что Мунк не был особенно возмущен отношением немцев к евреям.
Неожиданно он сказал:
— Я вчера ел на обед лютефиск {112}, говорят, будто летом она плохо усваивается. Вы что-нибудь слышали об этом?
Он встал:
— Может, выпьем по рюмочке коньяку?
И опять мелкими шажками подошел к шкафу, в который недавно заглядывал, достал оттуда бутылку и две рюмки. Он разлил коньяк, мы не чокнулись, а осторожно пригубили дорогой напиток, который теперь был на вес золота. Рюмки были маленькие, не эти современные большие тюльпанообразные бокалы, из которых букет поднимается к чутким носам. Он второй — и последний — раз наполнил рюмки. Эдвард Мунк стал трезвенником.
Я решился спросить у него о работе. Да, он работает. Мунк снова встал, подошел к полке и вернулся с блокнотом для набросков. В нем обычными цветными карандашами был сделан этюд, вид на сад с группой высоких деревьев. В рисунке и цвете было что-то современное, и он сказал, показав на большой холст, стоявший на мольберте в углу комнаты, что ему хочется перенести этот этюд на холст.
Конечно, так сделали бы многие художники, меня же буквально заворожила его рука, гладившая бумагу, и его голос, говоривший, что это предварительный набросок для будущего пейзажа. Потом я нашел эту картину в музее Мунка.
— Знаете, — сказал он, — я все время должен иметь контакт с кистями! Даже когда я не работаю, я должен хотя бы держать их в руке, чувствовать, что я пользуюсь ими, а то, боюсь, все это ускользнет от меня. Мне нужен контакт!
Пола Гоген говорил мне, что Мунк теперь редко продает свои работы, разве что ему вдруг понадобятся деньги. И я, которого никак нельзя было назвать капиталистом, проявил такт — я даже не спросил, нельзя ли купить литографию, которые у него, наверное, были, вместо того офорта с портрета. Посетив однажды Эмиля Нольде, я узнал, как люди клянчат, льстят или просто воруют акварели или наброски у слишком расточительных художников. Меня это испугало.
Мой разговор с Мунком продлился дольше, чем я рассчитывал. Как бы это ни было соблазнительно, я не хотел отвлекать его дольше, чем необходимо. Но каждый раз, когда появлялась возможность откланяться, Мунк продолжал говорить, он говорил о своей работе, о Берлине и Париже и наконец мы дошли до наших коллег. Доступ к Мунку мне открыл Турстейнсон, позвонив ему по телефону. Они уже были друзьями, когда большинство молодых художников только начали увлекаться тем новым, что Мунк привнес в норвежское искусство. Он был искусителем и вместе с тем был недостижим. Турстейн однажды написал очень красивую обнаженную модель. Мунк увидел ее. Он нахмурился: