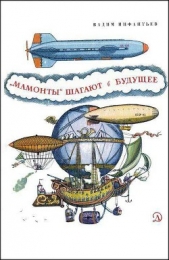Мамонты
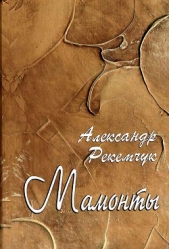
Мамонты читать книгу онлайн
Это — новая книга писателя Александра Рекемчука, чьи произведения известны нескольким поколениям читателей в России и за рубежом (повести «Время летних отпусков», «Молодо-зелено», «Мальчики», романы «Скудный материк», «Нежный возраст», «Тридцать шесть и шесть»).
«Мамонты» — главная книга писателя, уникальное эпическое произведение, изображающее судьбы людей одного семейного рода, попавших в трагический круговорот событий XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ближе к вечеру за пианино садилась Ляля, жена Пушки, мама Курки и Никуськи. Но это была совсем другая музыка.
Как я уже упоминал, Ляля, Лидия Павловна Татаринова, была консерваторкой. Она выросла в интеллигентной и когда-то небедной семье, проживавшей в другом конце Харькова, на Рымарской улице, у городского парка. Потом, познакомившись с молодым бравым офицером Николаем Приходько, она влюбилась в него без памяти, как заведено у девушек из приличных семейств, — и оказалась, при двух детях, в халупе на Малиновской.
Покончив со стиркой, уборкой и готовкой, со всей этой кухней, она мыла руки, старательно и долго причесывала перед зеркалом свои густые темнокудрые волосы, а потом садилась на вертящуюся табуретку, к пианино с бетховенским профилем.
Чаще всего она играла Шопена.
Она играла его си-бемоль-минорную сонату, точней — ту ее часть, которая слывет похоронным маршем. Его часто играли по радио, когда умирал кто-нибудь из советских вождей или когда кого-нибудь из них убивали — как убили, например, Кирова.
Но я не думаю, что Ляля соотносила эту музыку с советскими вождями — да чтоб они все передохли, чтоб их всех поубивало, — а играла каждый вечер шопеновский похоронный марш по себе самой: по своей неудавшейся жизни, загубленному таланту, по своей опрометчивой любви, — и, как оказалось вскоре, была права в своих предчувствиях…
Пока же она просто музицировала. Врубала в клавиши тонкие пальцы, извлекая из пианино надрывные аккорды, сменявшиеся вдруг тихой и раздумчивой мелодией безропотной покорности судьбе.
В прямой связи с затронутой темой, я должен поведать об одном важном открытии, сделанном мною именно тогда, в раннем детстве, когда я жил на Малиновской.
Однажды утром я проснулся, как всегда раньше всех, и этот миг пробуждения совпал, секунда в секунду, с боем старинных часов на стене.
Мятущийся, обремененный гирями маятник, доцокал до какой-то положенной отметки, и тогда из часов вырвался всполошенный скрип, храп, а следом ударил басовитый колокол: бам… бам… бам… всего шесть раз.
Я сопоставил этот колокольный звон с тем, что мой дедушка, купивший эти часы и повесивший их на стену, — мой дедушка, которого я никогда не видел, а лишь знал о нем, что он похоронен в клумбе с левкоями, — что он уже умер; и бабушка Шура, в честь которой мне дали имя, так ласково няньчившая меня на коленях, — что она тоже умерла; и тут я вдруг понял, что все люди обязательно умирают, когда маятник часов откачает их время; что умрут все, а, стало быть, я тоже когда-нибудь умру…
Это открытие так поразило меня, что я заревел в голос.
Мама, спавшая в соседней комнате, проснулась от моего отчаянного рева, вбежала, кинулась к дивану и стала меня испуганно расспрашивать: что случилось, а?..
Но я не сказал ей о своем открытии. Наврал, что приснился медведь, такой страшный. Я не хотел ее огорчать. Может быть, она еще не знала, что все умрут?
Это мое открытие вскоре получило важное продолжение.
Юрка обзавелся телескопом. То ли купил его в магазине (на какие шиши?), то ли его премировали за хорошую учебу, то ли он сам его смастерил — ведь наш Курка был необыкновенно умен и очень изобретателен.
Он установил свой телескоп в сараюшке, во дворе, проделал в дощатой крыше дырку, которую можно было задвигать, когда шел дождь, а когда дождя не было, то задвижка отодвигалась в сторону — и телескоп смотрел прямо в небо.
И однажды, когда вечернее небо было особенно чистым и звездным, Курка позвал нас с Никуськой в сараюшку.
Первым к телескопу был допущен я.
Я приник к глазку нижней трубки телескопа и увидел Луну — так близко, что, казалось, ее можно было достать и пощупать рукой.
Лунный диск был испещрен лопнувшими пузырями кратеров, яркими, залитыми солнцем долинами, кое-где оттененными пятнами сумрака.
— Ты видишь собаку? — спросил Юра.
— Где? Ах, да, вот она, вижу…
Я отлично видел на Луне собаку. Она стояла в сторожевой стойке, чуть наклонясь вперед, облаивая кого-то. Но лай не долетал досюда, ведь это было очень далеко, хотя через телескоп казалось, что это совсем близко.
Я не только увидел собаку, но и сразу узнал ее. Это была наша Люська, овчарка, которая катала меня на санках, когда я был еще совсем маленьким и когда в Одессе выпадал снег. Я сразу опознал ее по стойке, по черно-желтой масти. Она сторожила меня, когда рядом не было родителей, играла со мною. К несчастью, она вскоре погибла: выбежала со двора на улицу — и под колеса…
Но теперь я хоть знал, что сталось с нею потом, после смерти. Она оказалась на Луне.
В те несколько затяжных мгновений, когда я смотрел в телескоп, мое недавнее горестное открытие — что все умрут, и я тоже, — дополнилось не менее важным, но радостным открытием. Знанием того, куда все деваются после того, как умирают.
Все они оказываются потом на Луне.
Значит, именно там теперь и мой дед Андрей, и моя бабушка Шура.
Правда, в поле зрения Юркиного телескопа их не было видно. Но ведь можно предположить, что они укрылись не на этой, а на другой стороне лунного диска, который сегодня не показывали.
Они были на той стороне, а Люська стерегла их покой на этой.
Едальня на улице Карла Либкнехта
Мама работала в гостинице «Интурист» заведующей этажами — так называлась ее должность.
Она часто брала меня с собою на работу, и я вполне обжился в этом мрачном темносером здании с башней, похожем на рыцарский замок. Фасад рыцарского замка был обращен к площади Розы Люксембург.
Иногда мама купала меня в ванной какого-нибудь пустующего номера, ворча по поводу того, что на полу рядом с ванной был не коврик, на который следует ступать босыми ногами, а деревянная решетка: ну как, возмущалась она, на этой грубой занозистой решетке будут себя чувствовать крохотные ножки какой-нибудь заграничной мисс или мадемуазель — они же провалятся в зияющие щели…
Вобщем, она критиковала порядки в «Интуристе», и это, я думаю, ей зачлось.
Были и другие неприятности.
Мамин старший брат Николай Андреевич Приходько тоже служил в «Интуристе», притом в солидной должности. Его импозантная внешность, врожденный светский лоск, как нельзя лучше подходили к обязанности ублажать иностранцев в разоренной, одичавшей стране.
Я даже думаю, что это именно он устроил мою маму на должность заведующей этажами — по блату, из родственных чувств.
Но с ним самим случилась беда.
Сосед по дому, по нашей общей лачуге на Малиновской улице — Михаил Иванович Антименюк — продал ему для казенных надобностей подержанную пишущую машинку «Ундервуд». Тогда эти машинки были жутким дефицитом, ведь своих еще не делали, покупали за границей, — к тому же с латинским шрифтом, как раз для «Интуриста».
Машинка оказалась краденой.
Не знаю, поймали ли того, кто украл, но и Антименюка, который продал, и Николая Андреевича, который купил, — обоих потащили в суд. Обоим дали сроки, нашему Пушке — три года.
Конечно, ему могли бы при этом напомнить и социальное происхождение — из господ, его бывшее офицерство — знаем мы вас, золотопогонников. Но, вероятней всего, эти отягчающие обстоятельства в суде не фигурировали, что обеспечило сравнительно легкую кару. Ведь десяток лет назад или пяток лет спустя — не миновать бы ему, раз уж попался, за всё про всё, и вышки… В сущности, если иметь в виду такую перспективу, эта ворованная пишущая машинка спасла ему жизнь.
Он отбывал срок на Дальнем Востоке. Строил Байкало-Амурскую магистраль, которую позже, через десятилетия, объявят ударной комсомольской стройкой, прославят в стихах, воспоют в песнях. А на самом-то деле эту дорогу начали строить в глухой тайге и на вечной мерзлоте еще в тридцатых, согнав в лагеря десяти тысяч таких же бедолаг, как наш Пушка.
Сохранилась его фотография той поры.
Усы, которые он, подобно своему отцу Андрею Кирилловичу, носил всегда, теперь дополнились бороденкой — свидетельством не только бытовых неудобств, проблем с бритьем, — но и знаком житейской умудренности, покорности судьбе. Ранние залысины, тоскливые глаза…