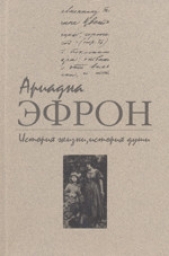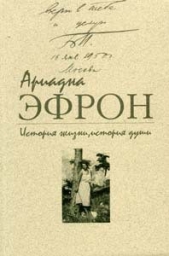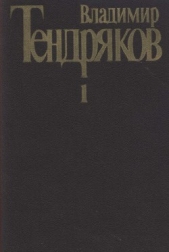История жизни, история души. Том 3

История жизни, история души. Том 3 читать книгу онлайн
Трехтомник наиболее полно представляет эпистолярное и литературное наследие Ариадны Сергеевны Эфрон: письма, воспоминания, прозу, устные рассказы, стихотворения и стихотворные переводы. Издание иллюстрировано фотографиями и авторскими работами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мать отличается от остальных взрослых тем, что она была всегда, а остальные когда-то появились впервые, чем-то удивив и поразив, и тем самым насильственно и зачастую случайно войдя в мою жизнь и запав в память. Всегда был и отец — но как-то реже и менее действенно, чем мать.
Мать — это прежде всего руки, — руки, разрывающие окружающий меня туман ещё неведомого и невнятного мне мира, руки — первая реальность, первая движущая сила моей жизни. Тонкие в запястьях, смуглые, беспокойные, они полны блеска и света серебряных перстней и браслетов, света, который приходит и уходит вместе с ней и от неё неотделим. Блестящие руки, потом блестящие глаза, звонкий, тоже блестящий голос — стремительность и гибкость движений и интонаций — вот мать моего младенчества. Вслед за руками, глазами, голосом, проблески моего сознания воспринимают именно её силу, именно её власть надо мной. Няня проводит со мной дни и ночи, однако надо мной властна не она, а мать. Дальше, когда я становлюсь немного старше и начинаю что-то обобщать и сопоставлять, появляется чувство материн-
7 Текст написан на отдельных листах, хранящихся в фонде М. Цветаевой в РГАЛ И (Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 328).
ской необычности и несхожести с другими, хотя в чём заключается эта несхожесть определить я, конечно, не в силах, ещё некоторое время спустя к этому примешивается сперва ощущение, потом уверенность в её красоте, в её молодости и — в её правоте во всём. Для меня маленькой мать была бесспорно права всегда, так же, как бесспорно неправы были те, кто перечил ей и возражал, хотя бы заступаясь за меня. Красоту же и молодость её я поняла внезапно в тот день, когда дотоле разрозненные для меня её частицы, плававшие в хаосе младенческого моего восприятия, неожиданно слились воедино; так из букв складываются слога, а из слогов, квадратных и неодушевлённых, как кубики, вдруг само собой сливается, сплавляется единое и неделимое слово — и ты, оказывается, уже умеешь читать!
У мамы (и об этом я узнала впоследствии), на кисти левой руки появилась небольшая опухоль, которую решено было оперировать. То, что мать на несколько дней исчезла из моей жизни, я как-то не заметила — исчезала она и раньше, но именно это возвращение её из больницы и послужило причиной моего прозрения.
Открылась дверь в детскую, и на пороге встала, впервые в жизни по-настоящему увиденная мною и понятая, невысокая, удивительно тонкая в талии, удивительно юная и зеленоглазая, женщина с вьющимися светло-русыми волосами, одетая в шумное широкое шёлковое платье. Мама! — от радости узнавания, осознания и прозрения я, словно от страха, сперва замерла, превратившись в сплошное сердцебиение, потом сердцебиение перешло в такой же сплошной визг восторга и благодарности свершившемуся чуду.
Квартира наша — номер пять — была путаная, неудобная и уютная, настоящая старая московская. В ней были тёмные коридоры, закоулки; чтобы добраться до ванной и кухни, нужно было подняться по крутой лесенке наверх; столовая - большая проходная комната без окон, была почти лишена дневного света: он еле сочился с потолка сквозь зимой заваленные снегом, летом запылённые стекла большой с частыми переплётами рамы, похожей на парниковую. Однажды во время обеда с потолка прямо на стол свалился наш пудель Джек, через какую-то чердачную лазейку выбиравшийся на крышу и оттуда-то лаявший на мальчишек. Подгнившая рама сдала под его весом, и крупный, угольно-чёрный пес, стриженный под льва, явился к нам, как посланец неба, в громовом ударе треснувшей рамы, в звоне битого стекла и в облаке снежной пыли. Он ничего себе не повредил, но был ошеломлен не менее нас и наших гостей. Помню, мне было жалко Джека, потому что над ним все смеялись тогда.
Мне не часто доводилось обедать вместе со взрослыми — это случалось в какие-то исключительные дни; за столом бывало шумно и
весело, говорили громко, смеялись дружно, вспыхивали и гасли непонятные мне споры и шутки. В вольном братстве взрослых я бывала редким гостем и чувствовала себя скованно: за столом мне — и только мне одной — делались замечания; мне, и только мне одной полагалось сидеть чинно, молча, есть аккуратно, корочкой хлеба помогая себе нацеплять на вилку рассыпающиеся куски какой-нибудь котлеты; не задавать вопросов, а только отвечать на них; на предложение мне еды я должна была говорить не просто «да» и «нет», а непременно «нет, спасибо», или «да, пожалуйста». Вертеться на стуле или болтать ногами было просто немыслимо и даже не приходило в голову - мать очень строго следила за моим хорошим поведением, вознаграждая за него и наказывая за непослушание. Детская расхлябанность, развинченность, грубость, беспричинные капризы были ей ненавистны.
У себя взрослые говорили на недоступном мне, несмотря на многие знакомые слова, языке, но стоило родителям или их друзьям переступить порог детской, и всё менялось. Их слова, теперь обращённые только ко мне, приобретали смысл, оживали, превращались в вопросы, на которые интересно было отвечать, или в сказки, стихи, прибаутки. Кроме того, в карманах взрослых — особенно в карманах папиных товарищей Гольцева" и Володечки Алексеева, часто оказывались предназначенные мне свертки и пакетики - то с куклой-Дюй-мовочкой, то с цветными карандашами или переводными картинками. Папа, Гольцев и Володечка рисовали для меня - папа львов, кота Кусаку и пуделя Джека, Гольцев и Володечка — лошадей, дома и даже паровозики. Мама ничего не рисовала и бывала недовольна, когда мне дарили альбом для раскрашивания. — «Учись рисовать сама», говорила она, «раскрашивать чужое - слишком легко. Раскрасила — а ведь рисунок не твой!»
И правда, своё давалось труднее. Я часами сидела за маленьким столиком в детской, самой светлой, в три окна, и самой просторной комнате нашей квартиры, и терпеливо выводила непокорных моему карандашу мальчиков и девочек с вывихнутыми, дрожащими руками и ногами, редкими волосами и непомерным количеством острых зубов. Рисунки, чудесно дополнявшиеся воображением, казались мне красивыми и похожими, но Марина относилась к ним придирчиво: «А у тебя самой разве такие зубы? Только у волков такие бывают. А пальцы? Посмотри, сколько пальцев ты нарисовала бедному мальчику. И почему так небрежно раскрашено?»
Мамина строгость к небрежности, к лениво-условному изображению вещей и людей, к приблизительности, уже к четырём годам приучила меня к некоей «творческой взыскательности», обострила
внимание и наблюдательность, не лишив ни фантазии, ни присущей рисующим детям смелости и вольности.
В нашей борисоглебской квартире не было вещей без души и истории, без прошлого. Может быть отчасти потому оно и завладело мною раньше, чем будущее. Картины в круглых тёмных рамах, висевшие в детской, были написаны бабушкой моей, Марией Александровной, давно умершей и воплотившейся для меня в оставшиеся после неё вещи, книги и в рассказы о ней моей матери. В высоком шкафу хранились детские книги трёх поколений — бабушкины, мамины и мои. И конечно самыми привлекательными из них были бабушкины, с крупным шрифтом и картинками, изображавшими то руины замков под мятущимися облаками, то дам и девочек с неземными лицами, одетых в дивные платья, похожие на абажуры, то бедуинов, верблюдов и тигров. Наверху, в папиной комнате, стоял полированный до бездонности, умолкнувший бабушкин рояль. Но главным хранилищем реликвий, источником воспоминаний, заставлявших задумываться, мечтать, мысленно воссоздавать ушедшее и ушедших, останавливать, поворачивать вспять неведомое мне время — была мамина комната. Вещи, населявшие её, были необычны, и мама обладала волшебным, роднившим её с Андерсеном, даром - открывать мне, маленькой, и души вещей и души тех, кому они принадлежали, и души творцов и создателей этих вещей.
Небольшая, продолговатая, и, как почти все комнаты нашей квартиры, за исключением детской, довольно тёмная, мамина комната осталась в моих воспоминаниях о тех годах чем-то вроде рождественской ёлки - таинственным сочетанием света и полумрака, присутствием скрытых и явных чудес, горьковато-пряным запахом (папиросного дыма, духов, старины) — осталась в памяти праздником. Праздником была синяя хрустальная елизаветинская люстра, каждый подвесок которой вспыхивал радужными колючими искрами; праздником — светло-серая, пушистая шкура волка, того самого, который съел Красную шапочку в большом томе сказок Перро с иллюстрациями Дорэ. И старинный секретер, в котором жила музыкальная шкатулка, и сама шкатулка, капля за каплей, бусинка за бусинкой ронявшая нежные, круглые звуки нежных, на полувздохе прерывавшихся мелодий. И раскрывавшиеся мне семейные альбомы, в которых не только мама, но и бабушка Мария Александровна «были ещё маленькие». И коробочка с самоцветами, привезенными дедушкой Иваном Владимировичем с Урала — названия их «турмалин», «сердолик», «хризопраз» были удивительными, глубокими, красивыми, как некоторые, часто мелькавшие в разговорах взрослых слова «пергюнт», «сакунтала», «бальмонт».