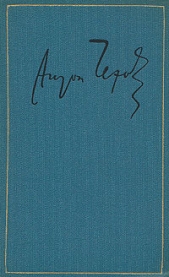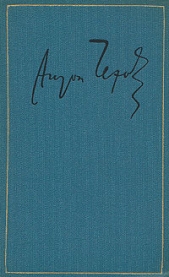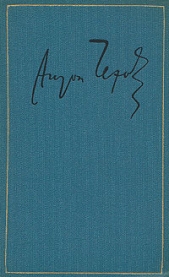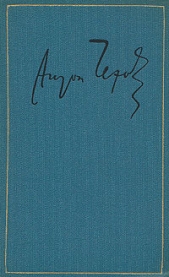Чехов. Жизнь «отдельного человека»
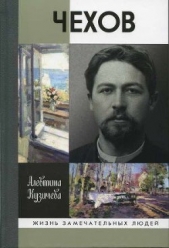
Чехов. Жизнь «отдельного человека» читать книгу онлайн
Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало собой наивысший подъем русской классической литературы, став ее «визитной карточкой» для всего мира. Главная причина этого — новизна чеховских произведений, где за внешней обыденностью сюжета скрывается глубинный драматизм человеческих отношений и характеров. Интерес к личности Чехова, определившей своеобразие его творческого метода, огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его биографии. Самая полная из них на сегодняшний день — капитальное исследование известного литературоведа А. П. Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его личную жизнь, историю создания его произведений. Книга, выходящая в серии «ЖЗЛ» к 150-летию со дня рождения Чехова, рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он избывал собственный «балласт» и «вздор», наверно, успешнее, чем образовался бы на чужих признанных образцах. Чехов изнутри изживал то, что называл своими ошибками и несообразностями. Поэтому всегда разделял работу(«многописанье», «скорописанье», «поденщина») и труд(«шлифовать», «коптеть», «процеживать», «сокращать», «херить»). Так он становился самим собой, искал соответствие самому себе. В годы, которые он назвал «застоем», работа превращалась в труд. Из анализа собственных рассказов и повестей, из советов, данных в минувшие десять лет старшему брату и целому кругу знакомых (Лазареву, Хлопову, Щеглову, Киселевой, Ежову, Суворину, Билибину), можно составить пособие для начинающих литераторов, с множеством афоризмов, вроде «Краткость — сестра таланта» и «Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него».
Он уже выработал свои термины для обозначения литературной техники — «архитектура», «корпус», «фундамент» и т. п. Нашел слова, которыми передавал свое внутреннее побуждение к сочинительству — «толкастика», «моя механика», «обвал», «писательский стих».
К концу 1889 года Чехову казалось, что он поймал свою интонацию, ощутил «строгий стиль». Полагал, что в его последних повестях и пьесах есть что-то новое. Так что не только «литературная бурса» (многописание в юмористических журналах) была у Чехова позади, но и школа собственной, говоря его словами, литературной дрессуры, муштры, серьезного труда. Вот ее он, видимо, имел в виду и хотел продолжить: «<…> мне надо писать добросовестно, с чувством, с толком, писать не по пяти листов в месяц, а один лист в пять месяцев». Но где и как, если у него «родственный клобок»? В декабрьском письме Суворину он дал ответ и на этот вопрос: «Надо уйти из дому, надо начать жить за 700–900 р. в год, а не за 3–4 тысячи, как теперь, надо на многое наплевать, но хохлацкой лени во мне больше, чем смелости». Еще год назад растолковывал Суворину, что дело не в деньгах, что ему нужны «одиночество и время».
Уйди Чехов из семьи, живи на 75 рублей в месяц, он обрек бы себя на аскетический образ жизни. На что-то не подобное, но отдаленно схожее — по самоограничению, по условиям быта и сосредоточенности на духовном труде — с участью монахов, постников, молитвенников. Современники вспоминали желание Чехова, не принимая пострига, жить в монастыре. Но это было в более поздние годы. А в 1889 году за тем, что походило на искомую аскезу, ощущалось нечто другое. Его беспокойство в последние два года, может быть, передавало тревогу несоответствия. Талант обретал силу, что бы ни говорили критики. Так Чехову подсказывало его чутье. Но это, судя по письмам, рождало в нем странное ощущение. Как будто чего-то недоставало в душе или, наоборот, что-то мешало. И постоянное опасение чего-то, какая-то настороженность, недоверие…
Чехов не однажды сознавался в эти годы в чувствах, которые люди обыкновенно скрывают — «зол, как нечистый дух», «зол, как сукин сын». И добавлял: «Злость — это малодушие своего рода». Бранил себя за «постыдную меланхолию». Ловил на чуждом ему чувстве крайнего раздражения, когда ровно год назад, в декабре 1888 года, рассказывал Суворину: «Длинные, глупые разговоры, гости, просители, рублевые, двух- и трехрублевые подачки, траты на извозчиков ради больных, не дающих мне ни гроша, — одним словом, такой кавардак, что хоть из дому беги. Берут у меня взаймы и не отдают, книги тащат, временем моим не дорожат… Не хватает только несчастной любви».
Всё это он называл «мусором», «хабур-чабуром», то есть неразберихой, «тиной и чертовщиной городской и литераторской суеты», которая охватывала, по его выражению, «как спрут-осьминог», съедала силы и время.
Избавившись в литературной работе от «мелочишек», «мелочей», «чепухи», Чехов в последнее время раздражался от житейских мелочей. Говорил, что они отравляют жизнь, делают ее противной, а человека утомляют и опутывают, умаляют. Весной 1889 года он с недоумением то ли признался, то ли спросил: «У меня странная судьба. Проживаю я 300 в месяц, не злой человек, но ничего не делаю приятного ни для себя, ни для других».
Весь 1889 год — подспудное желание куда-то уехать. Но он постоянно оговаривался, что недостает смелости. И сердился, когда не понимали, что речь шла не о путешествии, хотя бы и за границу. Не о поездке, хотя бы по замечательной Полтавщине или в очаровательную Одессу, или в Ялту, к морю. Как в разговорах о своем сочинительстве Чехов твердил — «не то» пишет; не «тем» занимается, так и в рассказах о своей жизни преобладало «не то…»: не так живет, недоволен собой.
В какой-то момент раздражение стало преобладать в признаниях Чехова о самочувствии и настроении, всё чаще прорываться в разговорах и письмах. Весной 1888 года Чехов написал Короленко: «Вообще замечаю, что мой характер начинает изменяться, и к худшему. Меняется и моя манера писать — тоже к худшему… Мне сдается, что я утомился, а впрочем, чёрт его знает…»
Осенью того же года он упоминал в письме Плещееву рассказ «Именины»: «Я пишу помаленьку, и выходит он у меня сердитый, потому что я сам сердит ужасно…» Чуть позже, обсуждая с Плещеевым достоинства и недостатки этого рассказа, Чехов одновременно, по его выражению, «заглянул в свою утробу». И всё письмо от 9 октября 1888 года — единое, органичное размышление, в котором невозможно отделить анализ Чеховым собственного рассказа от самоанализа.
В центре переписки этих лет с Плещеевым и Сувориным оказалось сознание пишущего человека: томящиеся сюжеты, ревнующие друг к другу образы, «армия людей», ждущих команды, чтобы вырваться из головы наружу. И часто в описаниях этой скрытой таинственной жизни прямо или косвенно Чехов задавался вопросом: кто вещает его устами? Он мог говорить, что не любит своего литературного занятия, что литература — его «любовница», которую, видимо, можно бросить. Судя по уточнениям, деталям, сравнениям, — всё это относилось к результатам занятий, к авторскому недовольству.
«Люблю» относилось к тому, что томилось в голове, к тому, что происходило после «команды», данной автором: «Я жаден, люблю в своих произведениях многолюдство <…> а кто симпатичен, с тем хочется подольше возиться»; — «Я люблю кейфовать и не вижу никакой прелести в скоропалительном печатании»; — «Что я называю хорошим? Те образы, которые кажутся мне наилучшими, которые я люблю и ревниво берегу, чтоб не потратить и не зарезать к срочным „Именинам“… Если моя любовь ошибается, то я не прав, но ведь возможно же, что она не ошибается!»
У него складывались потаенные отношения с образами, сюжетами, с «людьми», которые жили в его голове, как иногда ему казалось, независимо от него. И всё это вместе волновало, трогало, беспокоило. Это было живое ощущение живого таланта. Не дарования, а именно таланта, дара вымысла. Он говорил о нем как о живом существе: «прыгает в душе», «беспокойно переворачивается», «растет».
Письма Чехова передали, как возникало и разгоралось это чувство, как он осознавал свою человеческую неотделимость от своего таланта. Но вместе с этим в нем заметно нарастало нескрываемое беспокойство. Литературная «поденщина» была словно вне его — всего лишь средство зарабатывания денег, источник для содержания большой семьи. Может быть, и поэтому тоже он быстро забывал свои «рассказцы». Когда Чехов ощутил себя, как он определил в одном из писем осенью 1888 года, «организмом, способным быть хорошим писателем», а талант — средоточием этого организма, тогда и началась, вероятно, тревога.
Дотоле письма окрашивали досада, раздражение. Теперь именно тревога. Достаточно ли у него страсти, смелости, свободы? Вся его остальная жизнь? Как она связана с даром вымысла? И если литературный труд незаметно превратился в саму жизнь, то какой она должна быть, чтобы не умалить таланта? И что же талант? Всего лишь дар вымысла? Или суть его личности? Внутреннее побуждение поступков, жизненных решений?
В отзывах Чехова о литераторах, о художниках порой ощутима грань: писатель и человек. Особенно в разговоре о тех, кого он любил. Он выделял в своем поколении Гаршина и Короленко. Говорил, что любит «талант Короленко», сердечно отзывался о нем: «редкая душа»; — «Я готов поклясться, что Короленко очень хороший человек. Идти не только рядом, но даже за этим парнем — весело». Уже в эти годы личность Короленко привлекала Чехова. Но, возможно, сильнее, чем его сочинения — при всех признаниях в любви к дарованию Владимира Галактионовича. Что-то подобное проступало и в отношении к Гаршину: «редкий» человек; — «таких людей, как покойный Гаршин, я люблю всей душой и считаю своим долгом публично расписываться в симпатии к ним». Но ничего о его рассказах.