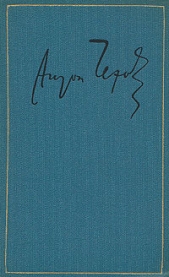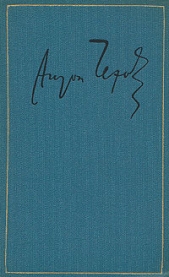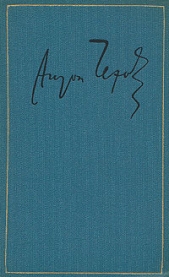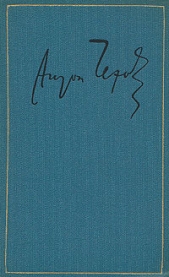Чехов. Жизнь «отдельного человека»
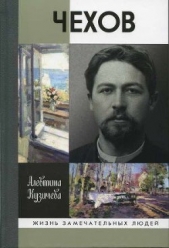
Чехов. Жизнь «отдельного человека» читать книгу онлайн
Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало собой наивысший подъем русской классической литературы, став ее «визитной карточкой» для всего мира. Главная причина этого — новизна чеховских произведений, где за внешней обыденностью сюжета скрывается глубинный драматизм человеческих отношений и характеров. Интерес к личности Чехова, определившей своеобразие его творческого метода, огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его биографии. Самая полная из них на сегодняшний день — капитальное исследование известного литературоведа А. П. Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его личную жизнь, историю создания его произведений. Книга, выходящая в серии «ЖЗЛ» к 150-летию со дня рождения Чехова, рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Во втором варианте «Иванова» Чехов тоже изменил финал. Иванов, умиравший в первом варианте пьесы от разрыва сердца, теперь погибал трагически. Он стрелялся. Но то было самоубийство зрелого человека, не выдержавшего груза своих ошибок, грехов, заблуждений. Герой рассказа «Володя» — из тех самых семнадцатилетних русских мальчиков, о которых шла речь в переписке Чехова и Григоровича два года назад. Он заболел тоской… той самой тоской русских самоубийц, о которой говорил Чехов.
В состоянии тоски Володя вдруг вспомнил детство, Ментону, «где он жил со своим покойным отцом, когда был семи лет; припомнились ему Биарриц и две девочки-англичанки, с которыми он бегал по песку… Захотелось возобновить в памяти цвет неба и океана, высоту волн и свое тогдашнее настроение, но это не удалось ему; девочки-англичанки промелькнули в воображении, как живые, всё же остальное смешалось, беспорядочно расплылось». В финале, после выстрела, Володя «увидел, как его покойный отец в цилиндре с широкой черной лентой, носивший в Ментоне траур по какой-то даме, вдруг охватил его обеими руками и оба они полетели в какую-то очень темную, глубокую пропасть. Потом всё смешалось и исчезло…».
Вставной эпизод и другой финал преобразили прежний рассказ. Это была новая проза. Чехов не изменил, а словно освободилее. Он дал повествователю и герою новое ощущение времени и пространства. Они безграничны в их сознании, в их памяти, в их мыслях о неизбежной смерти, о том, что там — за последним мгновением жизни.
Эта тоска, эта непредставимая, пугающая бесконечность времени и пространства уже ощущались в повести «Степь», в «Огнях». И они — главное ощущение героя повести «Скучная история».
В рассказе «Володя» гимназист-старшеклассник не мог уснуть, рисуя в мыслях завтрашний провал, как его исключат и он уже будет не гимназистом, а «молодым человеком»: «Он не старался уснуть, а сидел в постели, обняв руками колена, и думал». В повести «Скучная история» старый человек тоже не мог уснуть, тоже сидел «в постели, обняв колена», и старался «от нечего делать познать самого себя». И тоже думал, думал, думал…
Неслучайная случайность общих моментов — «обняв колена», бессонная ночь, чужая постель, ранний рассвет, непроизвольное, как у гимназиста, и осознанное, ироничное, как у старого профессора, познание самого себя — объединяла двух таких разных героев. Общее у них — русская тоска. Та самая, которую Чехов мог расслышать в сочинениях Чайковского. Его музыку он не просто ценил, а любил. Может быть, именно теперь, включая в сборник рассказ «Володя», повесть «Скучная история», определившие тональность книги, он решился посвятить ее Чайковскому. О чем и написал Петру Ильичу 12 октября: «<…> рассказы эти скучны и нудны, как осень, однообразны по тону <…> но это все-таки не отнимает у меня смелости <…> посвятить эту книжку Вам. <…> это посвящение <…> хотя немного удовлетворит тому глубокому чувству уважения, которое заставляет меня вспоминать о Вас ежедневно. <…> Душевно преданный А. Чехов».
Через день, 14 октября, Чайковский пришел в Кудрино, к Чехову. Говорили о литературе, музыке. И выяснилось, что оба поклонники Лермонтова, особенно его повести «Бэла». Договорились, что Чехов напишет либретто. Чайковский будто бы попросил, чтобы не было процессий с маршами, не любимых им.
После встречи Чайковский прислал с посыльным письмо и свою фотографию с надписью «А. П. Чехову от пламенного почитателя». Чехов ответил книгами, фото с надписью и письмом, в котором пошутил, что послал бы даже солнце, если бы оно принадлежало ему. Узнав о посвящении, Лазарев недоумевал в письме Ежову: «Что за охота Чехову посвящать книгу Чайковскому? Посвятил бы Суворину что ли. Ведь он, кажется, сочувствует и Суворину и „Новому времени“ — отчего бы не посвятить, тем паче, что, по его собственным словам, он кое-чем обязан Суворину. Впрочем, такому молодцу, как Чехов, виднее, что и как…»
Лазарев и Ежов часто прикладывали к себе мерку Чехова. Обыкновенно, как в случае с посвящением, это кончалось недоумением. Приятелей задевало обилие откликов на сочинения Чехова. Они хотели известности, рецензий и одновременно боялись критических отзывов и переживали недоброе слово о своих рассказах как катастрофу. Один из них говорил, что пора смести «метлой со сцены» таких драматургов, как Невежин, В. А. Тихонов, Немирович, Назарьева, но сам трусил писать для театра. И вообще писать так, как хотелось бы. Всё время они на кого-то оглядывались. Им не хватало смелости не подражать, не подделываться под вкусы своего читателя. Но не хватало и цинизма, чтобы, по ироническому выражению Лазарева, штамповать «жульнические повести и рассказы», жить безбедно и припеваючи. Осенью 1889 года Лазарев спрашивал в письме то ли себя, то ли Ежова: «Например, „Иванов“ мне кажется невозможным, а он идет и пользуется успехом. Я не понимаю, как может Иванов говорить со сцены многое, что он говорит, а он говорит со спокойным духом». Между тем «невозможная пьеса» уже шла в провинции.
В это же время автор «Иванова» решал судьбу «Лешего». Цензура разрешила пьесу, но путь на сцену императорских театров ей был закрыт. Оставались московские частные театры — Корша, М. М. Абрамовой, Е. Н. Горевой, о театре которой Чехов сам отзывался резко: «чепуха», «труппа серая», «сплошной ноль». Свое состояние Чехов назвал «вялым», а письма выдавали крайнее раздражение. Так бывало уже не раз: внешняя флегматичность, почти безразличие скрывали внутреннее беспокойство. И чем оно было сильнее, тем равнодушнее он выглядел. В письмах в эти дни и недели он ироничен, нарочито груб (сказал о себе: «я самолюбив ведь, как свинья», а о погоде, что она «скверная, хуже полового извращения»).
В общем, первый юбилей, десятилетие литературной работы (Чехов исчислял ее с 1879 года, с рассказа «Письмо к ученому соседу»), выпал на «бурное» время.
Что так раздражало Чехова? То, что по пути на сцену «Леший», по его словам, «хлопнулся и лопнул»? Что «Петербургская газета» не преминула поместить сообщение об обсуждении «Лешего» и вывод комитета, что это «прекрасная драматизированная повесть, а не драматическое произведение»? Или письмо Ленского о «Лешем»? Он еще летом, как и Свободин, просил пьесу для своего бенефиса. Еще в начале октября Чехов уверенно писал Ленскому: «Пьеса пойдет 31 октября в Питере в бенефис. Стало быть, 25–28 придется ехать в Питер. Не хочется. <…> Экземпляр пьесы притащу через 2–3 дня, когда кончу переписывать».
В Питер ехать не пришлось. Зато пришлось прочесть короткое письмо Ленского, присланное вместе с рукописью «Лешего» в начале ноября. Чехов получил даже не письмо, а будто начальственное предписание в обрамлении вежливых фраз. Вступительная, — что Ленский очень занят ролью и потому пишет письмо, а не встречается с автором. И заключительная, — что если Чехов хочет, то может навестить Ленского. И та и другая подчеркивали смысл остального: «Одно скажу: пишите повесть. Вы слишком презрительно относитесь к сцене и драматической форме, слишком мало уважаете их, чтобы писать драму. Эта форма труднее формы повествовательной, а Вы, простите, слишком избалованы успехом, чтобы основательно, так сказать с азбуки, начать изучать драматическую форму и полюбить ее».
Трудно поверить, что это написано добрым приятелем, хорошо знакомым человеком, тем, кто зазвал Чехова минувшим летом в Одессу и охотно беседовал с ним о литературе, о театре. Ленский наверняка знал о решении петербургского «воен-но-полевого суда». Ему мог не понравиться «Леший». Но откуда такая резкость, такие беспощадные слова и запретительный тон, почти приказание: прозу пишите, а пьесы, выходит, ни за что и никогда? Неужели этот вердикт — эхо не очень лестных, насмешливых, пятилетней давности фраз Чехова в «Осколках московской жизни» о немного обрюзгшем, «фарфоровом и бонбоньерочном трагике Ленском»? Однако автор «Осколков» не приказывал актеру не играть в трагедиях и уж тем более оставлять сцену, мол, из-за полного отсутствия таланта. А тут абсолютная уверенность и безоговорочность тона: Чехов ничего не понимает и никогда не поймет в драматургии, он не драматург. В словах же — «презрительно», «мало уважаете», «слишком избалованы успехом» — ощущалась какая-то личная, только, наверно, им двоим или одному Ленскому понятная подоплека этого послания.