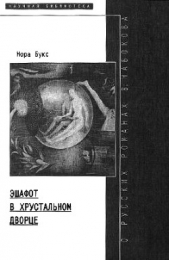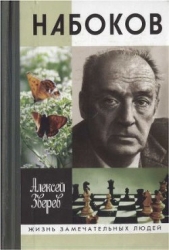Мир и Дар Владимира Набокова

Мир и Дар Владимира Набокова читать книгу онлайн
Книга "Мир и дар Владимира Набокова" является первой русской биографией писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конечно, и отец Лужина, автор сусальных детских повестей, и многие невзгоды его детства здесь не набоковские. Б. Бойд говорит, что детство Лужина — это во многом «перевернутое» детство Набокова. Именно «снижением образа отца» в Лужине (а потом и в других романах) достигается, по мнению русского набоковеда Ерофеева, та «ироническая нота», которая отчуждает автора от автобиографической реальности, властно заявляющей о себе. Тот же Ерофеев подметил, что отец Лужина — первый в веренице знаменитых отцов: он знаменитый писатель, а отец Мартына будет знаменитым врачом, отец Пнина — знаменитым офтальмологом и т. д. Снижение образа отца начинается с того, что именно отец объявляет Лужину об изгнании из детского рая. Автор совершает мастерский переход к взрослому Лужину, очень странному неуклюжему человеку, шахматному гению; потом мы видим его где-то в Германии рядом с прелестной молодой соотечественницей. Он влюбляется в нее, но и она, эта романтическая жалостливая барышня, влюбляется в странного, ни на кого не похожего, беспомощного и, конечно же, гениального («Артист, большой артист») человека. Они должны пожениться, но тут начинается берлинский турнир. Лужин идет к победе, однако ему предстоит еще главная партия — с молодым Турати, которого он победить не может. Защита его оказывается недейственной, и Лужин попадает в психиатрическую больницу. Психиатр предупреждает невесту, что шахматы ему отныне противопоказаны… Лужин женится на этой милой русской девушке, уходит из мира шахмат, однако и бытовая, семейная защита против ходов судьбы оказывается недейственной. Очень скоро Лужин замечает в своей жизни роковое «повторение ходов» его турнирной партии. Комбинация эта хочет снова ввергнуть его в шахматную бездну. На сцене появляется его прежний импрессарио. Должна повториться роковая партия с Турати, и в поисках выхода герой выпрыгивает в окно ванной комнаты. В комнату врываются спасатели, слышны крики: «Александр Иванович! Александр Иванович!» И, наконец, загадочная авторская фраза «Но никакого Александра Ивановича не было» завершает роман. По мнению набоковеда А. Долинина, фраза эта подсказывает читателю, что «вне творчества герой романа попросту не существует».
История шахматиста рассказана уже со всем мастерством и блеском зрелого Набокова. Главный герой, этот нелепый, потерянный человек вызывает (несмотря на многие нарочито неприятные черты, какими автор наделяет своего уродливого вундеркинда) сочувствие и даже симпатию. Сдается, что удачливый, стройный, светский, спортивный автор передает герою некое свое ощущение неловкости, неуклюжести и нескладности (оно проявляется позднее и у других героев Набокова — у юного Мартына, у зрелого Годунова-Чердынцева, не говоря уже о бедном Тимофее Пнине). Шахматный роман поразил читателя блеском мастерства, и даже самые взыскательные из поздних критиков Набокова (тот же В. Ерофеев) говорят о «точности и правдоподобии описанных шахматных баталий». Правда, знаток шахмат Э. Штейн, обращаясь к этой самой важной из неразгаданных шахматных «сказок» Набокова, сообщает нам, что Лужин не сильный шахматист, что «он не борец, а растерявшийся третьеразрядник», однако сам великий Алехин, весьма внимательно читавший роман, ничего подобного не говорил. Впрочем, ведь не это самое важное…
Этот несколько традиционный и все же смешной гений описан с добрым юмором:
«Лужин шел по тропинке перед ней и последовательно ронял: большой клетчатый носовой платок, необыкновенно грязный, с приставшим к нему карманным сором, сломанную, смятую папиросу, потерявшую половину своего нутра, орех и французский франк…»
С юмором написана и его очаровательная невеста («она так смутилась, что стала быстро перечислять все метеорологические приметы вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня») — идеальная русская женщина, в которой глубоко спрятана эта пленительная ее суть — «таинственная способность души воспринимать в жизни только то, что когда-то привлекало и мучило в детстве, в ту пору, когда нюх души безошибочен…» Она наделена чуткостью и способна «постоянно ощущать нестерпимую, нежную жалость к существу, живущему беспомощно и несчастно». По мнению С. Паркера, это одна из наиболее «тургеневских» женщин Набокова. Именно эти два главных характера, а также изрядная доля доброго юмора (ведь даже и два пьяных честных немца, спасающих Лужина, получились беззлобно смешными) сохраняют в романе невытравленную «человеческую влажность», которая привлекала еще в «Машеньке» и которую писатель грозился вытравить в «Даре», но (на счастье, сказал бы я) так и не вытравил. Родители невесты, уже знакомые нам по «Машеньке» и по рассказам Набокова, русские «зубры», тоже привлекательны здесь своей добротой. Уже при первом визите в дом невесты, войдя в эту «пресловутую квартиру, в которой самый воздух был сарафанный» (мать невесты, точно пародируя знаменитую эмигрантскую фразу, говорит, что она «унесла с собой свою Россию») и даже не разбирая в «умилительном красочном блеске» подробности всех этих пошлых картин («опять бабы в цветных платках, золотой богатырь на белом битюге, избы под синими пуховиками снега»), Лужин впадает в разнеженное состояние. Конечно, и прелестная добрая невеста Лужина, читающая на досуге роман генерала Краснова, принадлежит к этому же миру пошлости, который по ошибке вдруг так обрадовал Лужина («попав теперь в дом, где как на выставке, бойко продавалась цветистая Россия, он ощутил детскую радость, желание захлопать в ладоши…»). Однако, как наблюдательно отметил один из критиков, главное столкновение в романе — столкновение гения не с пошлостью, а с противником по творчеству — с шахматным противником, итальянским мастером Турати. Заводя разговор о Турати, Набоков довольно неприкрыто дает нам понять, что шахматы шахматами, но роман прежде всего — о творчестве, о первенстве в искусстве, о творческих победах и поражениях. Вчитаемся внимательно в строки, посвященные Турати:
«Этот игрок, представитель новейшего течения в шахматах… стремился создать самые неожиданные, самые причудливые соотношения фигур. Уже однажды Лужин с ним встретился и проиграл, и этот проигрыш был ему особенно неприятен потому, что Турати, по темпераменту своему, по манере игры, по склонности к фантастической дислокации, был игрок ему родственного склада, но только пошедший дальше… Лужин попал в то положение, в каком бывает художник, который, в начале поприща усвоив новейшее в искусстве и временно поразив оригинальностью приемов, вдруг замечает, что незаметно произошла перемена вокруг него, что другие, неведомо откуда взявшись, оставляли его позади в тех приемах, в которых он недавно был первым, и тогда он чувствует себя обкраденным, видит в обогнавших его смельчаках только неблагодарных подражателей и редко понимает, что он сам виноват, он, застывший в своем искусстве, бывшем новым когда-то, но с тех пор не пошедшем вперед».
Эти слова пишет тридцатилетний Мастер за накрытым клеенкой столом в пиренейском отельчике. Он сам — и Лужин и Турати одновременно, он пишет роман, который призван смешать все показатели на турнирной таблице эмигрантской литературы, после которого тяжко придется не только многочисленным эпигонам классического реализма, но и самому мастеру Бунину («Этот мальчишка выхватил пистолет и нас перестрелял», — примерно так Бунин и выразился). Хотя «мальчишка» Турати был «мастер родственного ему склада» (двойник — как позднее Кончеев в «Даре»), однако в своей «склонности к фантастической дислокации» мальчишка этот пошел дальше, обыграв старого мастера в приемах, в которых тот был когда-то первым… Любопытно, что, уже работая над романом (так было позднее и с «Даром»), Набоков предвидит последствия его появления, скажем, растерянность тех, кого он оставит позади и кто будет упрекать его в неблагодарности по отношению к учителям, к традициям родной литературы (как ни странно, и сегодня еще упрекают), в слишком уж «фантастической дислокации», в том, что он обкрадывает своих учителей (трудно только понять, кого именно — Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Пруста, немецких экспрессионистов, Кафку, Джойса, Шагала, Уэллса? Хотя ясно, что он просто учится у всех — и идет вперед!) Набоков, столь пристально наблюдавший всегда за комбинациями судьбы, не мог, конечно, не думать о возможности появления нового, молодого Турати, который сделает вдруг неожиданный ход, и тогда он, который сегодня… Он был в литературе бойцом, и он готов был отстаивать свое грядущее первенство на турнирной таблице, однако он не мог не предвидеть и всей тщеты подобного соревнования: в этом и заключается трагедия любого, самого что ни на есть высокого мастерства и самого что ни на есть модерного новаторства — что оно должно быть превзойдено. И Набоков заранее опасался коварства судьбы, ее непредсказуемых ходов.