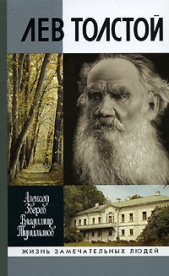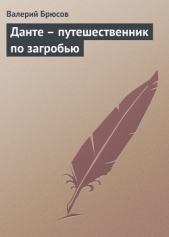Религия

Религия читать книгу онлайн
В свое книге «Толстой и Достоевский» Мережковский показывает, что эти два писателя «противоположные близнецы» друг друга, и одного нельзя понять без другого, к одному нельзя прийти иначе, как через другого. Язычество Л.Толстого — прямой и единственный путь к христианству Достоевского, который был убежден, что «православие для народа — все», что от судеб церкви зависят и судьбы России. Каждый из них выражает свои убеждения в своих произведениях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут произошло то, что всегда происходит с Л. Толстым и с Достоевским в отношении к народным верованиям: «Я не могу принять истины в таком виде», — говорит московский барич средне-высшего круга, «либерально-европейских убеждений», и с барскою брезгливостью роняет народную религиозную истину, как никуда не годную ветошь, на большой дороге; а каторжный, «ко злодеям причтенный», «необразованный» и «ретроградный» Достоевский подбирает эту ветошь — и мы видели, какую ризу своему Богу он из нее делает.
К старому, презренному сосуду, в котором заключается драгоценная влага, прикоснулся он с любовью: и на огонь его любви ответным огнем закипела казавшаяся мертвою влага; стеклянные стенки сосуда задрожали, зазвенели; тысячелетняя плесень вдруг отпала от них, как чешуя — и снова сделались они прозрачными: мертвые, мертвящие догматы снова сделались живыми, живящими символами.
Великий Инквизитор православной церкви, может быть, назвал бы «мистическое рассуждение» старца Зосимы об аде и адском огне «еретическим», неправославным. Но для нас, при теперешней степени нашего религиозного сознания, это — все еще старое вино, хотя и в новом сосуде. А вот и для нас уже новое вино, которое не только Великий Инквизитор, но, может быть, и сам старец Зосима, может быть, даже сам Достоевский, если бы сознал до конца то, что он здесь предчувствует, назвал бы ересью. В «Бесах» слабоумная Марья Лебядкина, хромоножка, юродивая, рассказывает бывшему нигилисту Шатову о своей жизни в русском православном монастыре: «Монашек стал говорить мне поучение, да так это ласково и смиренно говорил и с таким, надо быть, умом; сижу я и слушаю. „Поняла ли?“ — спрашивает. „Нет, говорю я, ничего я не поняла, и оставьте, говорю, меня в полном покое“. Вот с тех пор они меня одну в полном покое оставили, Шатушка. А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: „Богородица что есть, как мнишь?“ — „Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого“. — „Так, говорит, Богородица великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. Таково, говорит, пророчество“». По всей вероятности, за одно из таких пророчеств и посадили ее на покаяние в монастырь. Какую, однако, неимоверную загадку загадала нам эта «отреченная» старица, эта русская сибилла! Уж конечно не Л. Толстому разгадать ее, да и сам Достоевский, пожалуй, не захотел бы, испугался бы последнего слова разгадки. Богородица — великая мать, не только небесная, но и земная, «Мать сыра земля», это — незапамятно-древнее, общее всем европейским народам, арийское («Зверь знает все» — и «Земля знает все», может быть, прибавил бы дядя Ерошка), как будто языческое, еще до-христианское, и, вместе, как будто уже не христианское, противо-христианское, идущее от Антихриста — дерзновеннейший предел, крайняя точка западноевропейской культуры. Мы, только мы, в самые последние дни этой культуры начинающие вспоминать забытый смысл ранних Элевзинских и поздних, соприкоснувшихся с христианством, греко-римских таинств Великой Матери, Доброй Богини, Magna Mater, Bona Dea, Кормилицы и «упования рода человеческого», много-грудой Кибелы, Цереры, подземных таинств, в которых тело Богини превращалось в святой хлеб, только мы, услышавшие завет Заратустры-Антихриста: «Братья мои, оставайтесь верными земле» — «bleibt mir treu der Erde» — смутно предчувствуем, какие неизмеримые религиозные возможности заключены в этом действительно пророческом символе. Так это ново, так страшно, что мы едва смеем шептать об этом друг другу на ухо; — и вот, однако, шепот этот уже раздается и там, в стихийных глубинах народа. Это такое новое, молодое, кипящее вино, что если не перелить его в новый сосуд, то старый, действительно, пожалуй, не вынесет брожения, разлетится вдребезги, вино вытечет и уйдет в землю. По сравнению с этим подземным огнем, который грозит неимоверным взрывом и землетрясением, какою невинною шалостью, не только с нашей точки зрения, но и с точки зрения Великого Инквизитора, даже старца Зосимы и самого Достоевского, кажется «подогретое вчерашнее блюдо» — чуть-чуть тепленькое христианство Л. Толстого, со всем его либерально-европейским отрицанием и возмущением!
Ты во лжи, а я в истине, — сказал Л. Толстой народу, по собственному признанию, «самое жестокое слово, какое может сказать один человек другому». — Ты в одной истине, я в другой, соединим же обе истины, — ежели не словами, не в сознании, то своими творческими образами, в своем пророческом ясновидении, сказал народу Достоевский самое милосердное слово, какое может сказать один человек другому. Л. Толстой в своем христианстве «отпал», ушел от народа, и народ ушел от него. Достоевский вышел из народа и опять вошел или должен войти в народ. Для Л. Толстого народ есть отрицание культуры, культура — отрицание народа; но оба отрицания не доходят до конца; христианство Л. Толстого не народно и не культурно до конца; оно полународно, полукультурно; оно остается в области барски-мещанской, «средне-высшей», то есть все же серединной, может быть, самой серединной из всех середин. Для Достоевского культура есть высшее утверждение, продолжение и завершение народа, сознание народом будущего сверхнародного, всемирного, всечеловеческого единства. Религия Достоевского, как и всякое истинное христианство, есть религия конца (ибо в конце лишь бесконечное), величайшее отрицание всякого барства и мещанства, всякой середины.
Л. Толстой бессознательно не любит и боится истории, как будто чувствует, что ему с нею не справиться; толстовское христианство есть удаление или бегство со всех естественных исторических путей человечества в область отвлеченную, противоестественную, противо-историческую. Живую связь прошлого с будущим, живую цепь религиозной преемственности, то «шествие факелоносцев», которое из века в век, из народа в народ передает горящий факел всемирно-исторической христианской культуры — Л. Толстой разрывает во имя настоящего, только настоящего, — мы видели, с каким насилием. Он хочет быть один во всемирной истории, так же как в русском народе и в русской культуре. Был Сократ, был Конфуций, Будда, Христос — и вот еще Л. Толстой. Но между ним и Христом — никого, кроме разве жалкой горсти английских методистов, американских квакеров, вроде машинных Симонсонов, или буддийских мужичков, вроде Набатовых, да и те, пожалуй, ближе к безбожному Араго, чем ко Христу. Толстовское христианство не выросло из русской или западноевропейской исторической почвы, а как бы с неба упало готовое. Века и тысячелетия христианской культуры не только дядя Влас, но и Сергий Радонежский, и Нил Сорский, и Франциск Ассизский лишь более или менее сознательно распространяли и укрепляли ложь, «шарлатанство», «мошенническую подтасовку жрецов», так что всему историческому христианству, если и не нашедшей, то ведь все же искавшей себя и на Востоке, и на Западе вселенской церкви, этому доныне единственному реальному воплощению идеи всемирного единства, Л. Толстой ничего не умеет противопоставить, кроме либерального, смердяковского: «Про неправду все написано», и столь же либерального, вольтеровского: «écraser l’infamie!» [13]
Никто, может быть, в такой мере, как Достоевский, не понимал того, что окончательные судьбы христианства — выше всех судеб исторических, за всеми историческими судьбами человечества; но он понимал также, что прежде, чем вступить на этот путь сверхисторический, надо пройти до конца, до крайней точки все пути исторические; что прежде, чем наступит бесконечное мгновение, когда «времени больше не будет», — надо, чтобы раньше все «времена и сроки» исполнились. Религия для Достоевского есть не отрицание, как для Л. Толстого, а высшее утверждение и завершение — преодоление истории. Никто, может быть, в такой мере, как Достоевский, не чувствовал живую связь прошлого с будущим, живую цепь всемирно-исторической религиозной преемственности, из которой нельзя вынуть ни одного звена, не разорвав всей цепи.