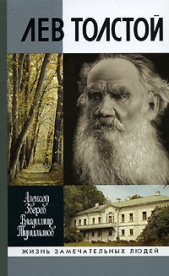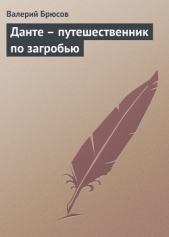Религия

Религия читать книгу онлайн
В свое книге «Толстой и Достоевский» Мережковский показывает, что эти два писателя «противоположные близнецы» друг друга, и одного нельзя понять без другого, к одному нельзя прийти иначе, как через другого. Язычество Л.Толстого — прямой и единственный путь к христианству Достоевского, который был убежден, что «православие для народа — все», что от судеб церкви зависят и судьбы России. Каждый из них выражает свои убеждения в своих произведениях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вот, однако, пророчество исполнилось: на наших глазах разбил он сосуд и мы видели, как драгоценная влага разлилась по земле, ушла в землю, так что ничего не осталось; на наших глазах совершилось окончательное «отпадение, отъединение Л. Толстого от русского всеобщего и великого дела»; он, действительно, взял у народа все драгоценное, лишил его главного смысла жизни; оттолкнул от себя всю веру народную, как мертвое тело; сказал народу самое жестокое слово, какое только может сказать один человек другому: ты во лжи, я в истине. На наших глазах обнаружился — в своих окончательных, исполинских размерах, в своем, так сказать, метафизическом, премирном значении — «московский барич средне-высшего круга». Мы также видели, как сам он, по пророчеству Достоевского, разрушал все свои последовательные верования, так что ни одного из них долго не удерживалось — каждый раз «выходил какой-нибудь новый сучок, и разом все рушилось». Окончательно же рухнуло, так что уже и поднять нельзя, может быть, только теперь, в самое последнее время, когда дописывалось «Воскресение».
Да, никто в России так рано и верно не разгадал сущности толстовской религии; никто так ясно не предвидел грозившей тут русскому духу опасности; никто так стремительно и круто, может быть, даже слишком круто, не повернул в сторону, противоположную Л. Толстому — никто, как Достоевский. И ежели есть у нас вообще противоядие от не христианской и не русской толстовской религии лжи, то оно именно в нем, в Достоевском.
— Это нелепость, это чудовищность, это кощунство. Я не могу принять религиозного учения в таком безобразном виде! Никаких эфиопов, скорпиев, тигров шестикрылатых нет в Евангелии. «Про неправду все написано». Но если бы даже это было согласно с разумом, то для меня это просто не интересно: никакого нравственного правила нельзя из этого вывести, — негодует Л. Толстой.
Но ведь вот не из этой ли, действительно, с известной точки зрения, безобразной лжи, не из этого ли горячечного бреда возник образ истинной народной святости, образ великого подвижника земли русской, полный «торжественным благообразием».
И ведь уж эта великая сила — подлинная, та сила веры, которая и доныне горы сдвигает; и это «дело Божие» — истинное. «Про неправду все написано» — как же из неправды вышла правда, сделалась правда? «Для меня, несчастного, ясно было, — говорит Л. Толстой, — что ложь тончайшими нитями переплетена с истиной, и что я не могу принять ее в таком виде». Что же делать? Как отделить нужного и прекрасного дядю Власа от совершенно ненужного и чудовищного тигра шестикрылатого? Тут нити, связывающие ложь с истиной, так тонки, так спутаны, что распутать их нельзя — можно только рассечь. Но, рассекая эту слишком кровную, слишком глубоко уходящую в сердце народа, похожую на «связь души с телом», связь религиозной были с небылицею, как бы не повредить, не поранить и даже не умертвить самого сердца? Как бы при этом рассечении старец Влас не изошел кровью, не превратился бы в бескровного, бесплотного, страдающего бледною немочью, христианского старца Акима, живого мертвеца, который хочет и не может воскреснуть, в котором уже чувствуется «мировой фагоцит», «из каучука сделанная», «мертвечинкой припахивающая», американская машина Симонсон? Другими словами: чем пожертвовать — нашею культурною истиной народному религиозному благообразию, как это делали или желали сделать славянофилы; или наоборот — народным благообразием нашей культурной истине, как это сделали западники? Что же делать нам, несчастным, ни западникам, ни славянофилам, которым и то и другое одинаково и свято? На этом распутии, перед этою задачею стояли оба они, Л. Толстой и Достоевский; каждый решил ее по-своему, и в различии решений этих сказалась вся их бесконечная религиозная противоположность.
«Мерзавцы, дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога, — писал Достоевский в своем предсмертном дневнике. — Этим олухам и не снилось такой силы отрицания Бога, какое положено в Инквизиторе. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицания, которое перешел я. Им ли меня учить?» Далее, в том же дневнике: «Мы все нигилисты». — «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же черт».
Впоследствии мы увидим, что это так, что тут Достоевский не хвастает. Он, действительно, верил в Бога не как фанатик и не как мальчик, даже не как Л. Толстой. Хотя, конечно, пережил не меньшие религиозные сомнения, чем он: такое горнило сомнения, через которое прошла осанна Достоевского, такой силы отрицания Л. Толстому и не снилось. Сравнительно с тем, что в этом отношении испытал создатель «Братьев Карамазовых», все религиозные боренья и муки Л. Толстого — просто игра. Ведь именно одним из тех, которые такие «бездны» веры и неверия могут созерцать в один и тот же момент, что, право, иной раз кажется, только бы еще волосок — и полетит человек «вверх тормашки», как выражается Черт Ивана, ведь одним из таких созерцателей обеих бездн был сам Достоевский. В эти мистические и метафизические бездны христианства Л. Толстой, как религиозный мыслитель, никогда не заглядывал, хотя бы уже потому, что для него они были «неинтересны», всегда шел он в сознании своем мимо них, прочь от них, по большим дорогам, по безопасной позитивной плоскости. Вера Достоевского стояла против всех сомнений не потому, что они были слабее, а потому, что сама вера была сильнее, чем вера Л. Толстого.
Конечно, Достоевский не меньше, чем Л. Толстой, способен возмущаться языческою грубостью народных суеверий; не меньше, чем Л. Толстому, доступна ему точка зрения, с которой не только на «тигра шестикрылатого», или на создание света в четвертый день, но и на многое другое, гораздо более важное, драгоценное, здравый смысл возражает смердяковским: «Про неправду все написано».
«В этом существе из народа, — говорит Достоевский устами Подростка о святом старце Макаре Ивановиче, несколько похожем на дядю Власа, — я нашел нечто совершенно для меня новое, нечто мне не известное, нечто гораздо более ясное и утешительное, чем как я сам понимал эти вещи прежде. Тем не менее, возможности не было не выходить иногда просто из себя от иных решительных предрассудков, которым он веровал с самым возмутительным спокойствием и непоколебимостью. Но тут, конечно, виною была его необразованность; душа же его была довольно хорошо организована и так даже, что я не встречал еще в людях ничего лучшего в этом роде. Много я от него переслушал разных легенд из жизни самых древнейших „подвижников“. Не знаком я с этим, но думаю, что он много перевирал из этих легенд, усвоив их большею частью из изустных же рассказов простонародья. Просто невозможно было допустить иных вещей. Но рядом с очевидными переделками или просто с враньем всегда мелькало удивительное целое, полное народного чувства и всегда умилительное… Я запомнил, например, из этих рассказов один длинный рассказ — житие Марии Египетской. О „житии“ этом, да почти и о всех подобных я не имел до того времени никакого понятия. Я прямо говорю: этого почти нельзя было вынести без слез и не от умиления, а от какого-то странного восторга: чувствовалось что-то необычайное и горячее, как та раскаленная песчаная степь со львами, по которой скиталась святая».