Позвонки минувших дней
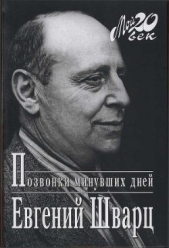
Позвонки минувших дней читать книгу онлайн
В дневниках одного из лучших советских драматургов Евгения Львовича Шварца (1896–1958) без прикрас рассказано о его собственной жизни и о десятках близко знакомых ему людей — С. Маршаке, К. Чуковском, Д. Хармсе, Н. Олейникове, М. Зощенко, Л. Пантелееве, Б. Житкове, К. Федине, В. Шкловском, М. Слонимском и др.
Читатель встретит на страницах умного, тонкого, открытого, доброжелательного, ироничного собеседника, иногда — беспощадного критика и всегда — тонкого стилиста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он читал и смеялся, и Олейников с умилением и завистью показал мне на него. Были мы с Николаем Макаровичем до крайности разными людьми. И он, бывало, отводил душу, глумясь надо мной с наслаждением, чаще за глаза, что, впрочем, в том тесном кругу, где мы были зажаты, так или иначе становилось мне известным. А вместе с тем — во многом оставались мы близкими, воспитанные одним временем. Нас восхищали такие разные писатели, как Чехов, Брет Гарт, Хлебников, Гамсун (Хлебникова понимал Николай Макарович гораздо лучше, чем я). Для нас были как бы событием личной жизни фильмы «Парижанка» или «Под крышами Парижа». Я знал особое, печальное,влюбленное выражение, когда что‑то его трогало до глубины. Сожаление о чем‑то, поневоле брошенном. И если нас отталкивало часто друг от друга, то бывали случаи полного понимания, впрочем, чем ближе к концу, тем реже. И такое полное понимание вспыхнуло на миг, когда показал Николай Макарович на мальчика, читающего веселую книгу Потерянный рай — и ад, смрад которого вот — вот настигнет. Но погода стояла жаркая, южная, и опять на какое‑то время удалось отвернуться от жизни сегодняшней и почувствовать тень вчерашней. Тогда помидоры были редкостью в Ленинграде. Нам удалось купить на рынке привозных. Это еще больше напомнило юг. Но ни в одной лавке в Разливе не нашлось подсолнечного масла. Тогда мы пошли пешком в Сестрорецк. Еще вечером сообщил Олейников: «Мне нужно тебе что‑то рассказать». Но не рассказывал. За тенью прежней дружбы, за вспышками понимания не появлялось настоящей близости. Я стал ему настолько чуждым, что никак он не мог сказать то, что собирался. Погуляли по Сестрорецку, прошлись по насыпи в Дубках к морю. Достали в магазине подсолнечного масла. Вернулись домой в Разлив. Вечером проводил я его на станцию. И тут он начал: «Вот что я хотел тебе сказать…» Потом запнулся. И вдруг сообщил общеизвестную историю о домработницах и Котове.
Я удивился. История эта была давно и широко известна. Почему Николай Макарович вдруг решил заговорить о ней после столь длительных подходов, запнувшись. Я сказал, что все это знаю. «Но это правда! — ответил Николай Макарович. — Уверяю тебя, что все так и было, как рассказывают». И я почувствовал с безошибочной ясностью, что Николай Макарович хотел поговорить о чем‑то другом, да язык не повернулся. О чем? О том, что уверен в своей гибели и, как все, не может двинуться с места, ждет? О том, что делать? О семье? О том, как вести себя — там? Никогда не узнать. Подошел поезд, и мы расстались навсегда. Увидел я в последний раз в окне вагона человека, так много значившего в моей жизни, столько мне давшего и столько отравившего. Через два — три дня узнал я, что Николай Макарович арестован. К этому времени воцарилась во всей стране чума. Как еще назвать бедствие, поразившее нас? От семей репрессированных шарахались, как от зачумленных. Да и они вскоре исчезали, пораженные той же страшной заразой. Ночью по песчаным, трудным для проезда улицам Разлива медленно пробирались, как чумные повозки за трупами, машины из города за местными и приезжими жителями, забирать их туда, откуда не возвращаются. На первом же заседании правления меня потребовали к отвегу. Я должен был ответить за свои связи с врагом народа. Единственное, что я сказал: «Олейников был человеком скрытным. То, что он оказался врагом народа, для меня полная неожиданность». После этого спрашивали меня, как я с ним подружился. Где. И так далее. Так как ничего порочащего Олейникова тут не обнаружилось, то наивный Зельцер, драматург, желая помочь моей неопытности, подсказал: «Ты, Женя, расскажи, как он вредил в кино, почему ваши картины не имели успеха». Но и тут я ответил, что успех или неуспех в кино невозможно объяснить вредительством. Я стоял у тощеньких колонн гостиной рококо, испытывая отвращение и ужас, но чувствуя, что не могу выступить против Олейникова, хоть умри.
После страшных этих дней чувство чумы, гибели, ядовитости самого воздуха, окружающего нас, еще сгустилось. Мой допрос на заседании правления кончился ничем. Тогдашний секретарь наш потребовал, чтобы я написал на имя секретариата Союза заявление, в котором ответил бы на те вопросы, что мне задавали. Но в этом заявлении я не прибавил ничего к тому, что с меня требовали. Никогда я не думал, что хватит у меня спокойствия заглянуть в те убийственные дни, но вот заглядываю. После исчезновения Олейникова, после допроса на собрании, ожидание занесенного надо мной удара все крепло. Мы в Разливе ложились спать умышленно поздно. Почему‑то казалось особенно позорным стоять перед посланцами судьбы в одном белье и натягивать штаны у них на глазах. Перед тем как лечь, выходил я на улицу. Ночи еще светлые. По главной улице, буксуя и гудя, ползут чумные колесницы. Вот одна замирает на перекрестке, будто почуяв добычу, размышляет — не свернуть ли? И я, не знающий за собой никакой вины, стою и жду, как на бойне, именно в силу невинности своей. В город переехали мы довольно рано. И тут продолжалось все то же. Да, Катина болезнь ушла из нашей жизни, но легче от этого не стало. В 38–м году исчез Заболоцкий [83]. Потом ослеп внезапно отец. Глазная больница. Палата. Папа, плачущий от каждого сильного душевного движения. Из больницы перевез я его к нам во Всеволожскую, на дачу. В городе, уже осенью, выхожу я с Наташей из ворот дома, где они жили на Литейном, и сердце сжимается от ужаса и жалости. Медленно, как на похоронах, идут мама и папа. И мама чувствует всю горечь и значительность собственного своего положения. Я угадываю это по тому, как прямо она держится, как широко и мерно размахивает рукой. Как в траурном шествии. Мы догнали их, и, услышав Наташин голос, папа заплакал.
Чувство успеха у меня связано с чувством полного успокоения, до глубины. Исчезают тревоги и ожидания. Словно тучи расходятся. Глаза смотрят с жадностью на открывшийся, освещенный солнцем, праздничный мир. Я живу и чувствую, что живу. Но продолжается это всегда очень недолго. А теперь вспомню для начала новой тетради, как я шел пешком из Левашова в Песочную двадцать четыре года назад [84]. Было это в июне, в очень ясный день, ничего худого или хорошего не случилось, но вспоминаю я это путешествие как событие. И при этом счастливое. Ничего не случилось. Я сам был источником счастья. Жизнь играла. В те годы Песочная считалась станцией пограничной, а мне ужасно не хотелось просить пропуск, хлопотать. Я проводил Наташу с бабушкой и Дуней на вокзал. Наташа, годовалая, миленькая, черноглазая, не говорившая ничего почти, с жадностью смотрела за окно и особенно оживилась, когда пошел трамвай по Литейному мосту. Над Невой. Она даже заговорила, забормотала что‑то, к умилению соседки. Легенькая, в коротеньком легком платьице, большеротая, большеглазая, она глядела то через одно мое плечо, то через другое, а я все любовался и удивлялся на нее. И вот они уехали, а я все никак не мог заставить себя хлопотать о пропуске, и соскучился, и недели через две отправился в Песочную безо всякого пропуска. Но не посмотрел на расписание поезда и уже в поезде, на ходу, узнал, что идет он только до Левашова. Что тут делать? Кондукторша не могла мне объяснить, сколько между этими станциями. Между Левашовом и Песочной. Даже сказала с некоторым страхом: «Ой, не так близко! Вот между Озерками и Шуваловом — это я знаю, что рядом. А тут, ой, не знаю». В Левашове возле станции стоял финн, как будто ждал пассажиров или просто задумался. Рыжеватый, загорелый докрасна, как все рыжие. Лошадка его, запряженная в двухколесную повозочку, тоже не то отдыхала, не то замечталась. Меня охватила забытая тишина по ту сторону станционного здания. По сторону, противоположную поселку. Я спросил, не довезет ли он меня до Песочной. Финн с неожиданно застенчивой улыбкой сказал: «Можно». Но цену назвал невозможную по моим деньгам. И, улыбаясь еще застенчивее, чуть не закрываясь рукавом, решительно отказался отступить. И я махнул рукой и пошел тропинкой вдоль полотна, через поле. И тишина все больше охватывала меня, успокаивала до глубины. Я смотрел с жадностью на открывшийся мне освещенный солнцем мир. Запах травы обрадовал меня, как подарок. Молодой лесок неожиданно зашумел слева, я как‑то проглядел его близость. И чем больше я шел, тем больше пьянел. Отсутствие денег, неясность планов моих мало заботили меня. Мучили друзья. Но я был счастлив дома. И все же, видимо, я был больше встревожен, чем предполагал, — уж очень радовал покой, охвативший меня. Не сон, не дремота, а покой, когда отступили заботы и ты чувствуешь, что живешь. Песочная приближалась…


























