Позвонки минувших дней
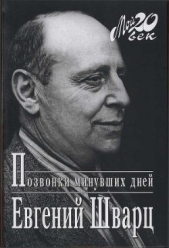
Позвонки минувших дней читать книгу онлайн
В дневниках одного из лучших советских драматургов Евгения Львовича Шварца (1896–1958) без прикрас рассказано о его собственной жизни и о десятках близко знакомых ему людей — С. Маршаке, К. Чуковском, Д. Хармсе, Н. Олейникове, М. Зощенко, Л. Пантелееве, Б. Житкове, К. Федине, В. Шкловском, М. Слонимском и др.
Читатель встретит на страницах умного, тонкого, открытого, доброжелательного, ироничного собеседника, иногда — беспощадного критика и всегда — тонкого стилиста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Позорное чувство собственной неизвестности. Жил я в гостинице «Ярославль» на Большой Дмитровке. Ходил на все заседания.
Уже несколько дней чувствую себя не то что больным, а изменившимся. Опустившимся. Продолжаю о съезде. Праздничный, слишком праздничный, не сражение, а парад. Смутное ощущение неловкости у всех. Еще вчера все было органичней. РАПП был РАППом, попутчики — попутчиками. Первый пользовался административными приемами в борьбе, вторые возмущались. И вот всем предложили помириться и усадили за один стол, и всем от этого административного благополучия неловко. В президиуме Пастернак рядом с бывшими вождями РАППа. Когда называют фамилию Маяковского, то все непременно аплодируют. Выступает Мальро, качая головой, нет, закидывая голову, страдая тиком. Бродит по фойе огромный толстяк австриец или немец, в коротеньких штанах на лямочках, в толстых чулках до колен с недоумевающе — сердитым выражением лица. Забыл его фамилию. Говорит о доверии к писателям Эренбург. Горький, похожий на свои портреты, отлично, строго одетый, в голубоватой рубашке, модной в те дни, с отличным галстуком, то показывается в президиуме, то исчезает, и мне чудится, что и ему неловко, хотя он является душой происходящих событий. Народ собрался по самой своей профессии самолюбивый, мнительный. Я спросил у Шкловского о Пастернаке, который вел заседание: «Он хороший человек?» — «На льду не портится!» — ответил Шкловский, искоса, недоверчиво взглянув в президиум… Юрий Олеша выступал так, что Никулин [78]дразнил его впоследствии: «Вы и носки публично снимали, и кальсоны».
Никулин по поводу выступления Олеши дразнил его: «И носки вы снимали, и показывали зрителям подштанники — а чего добились? Выбрали вас в ревизионную комиссию, как и меня». После съезда устроен был большой банкет. Столы стояли и в зале и вокруг зала в галереях, или как их называть. Я сидел где‑то в конце, за колоннами. Ходили смутные слухи — что, мол, если банкет будет идти пристойно и чинно, то приедут члены правительства. Однако банкет повернул совсем не туда. Особенных скандалов, точнее, никаких скандалов не было. Но когда Алексей Толстой, выйдя на эстраду, пытался что‑то сказать или заставить кого‑то слушать — на него не обратили внимания. Зал гудел ровным, непреодолимым ресторанным гулом, и гул этот все разрастался. Не только Толстого — друг друга уже не слушали. Потом рассказывали, что Горький прикрикнул на Толстого: «Слезайте сейчас же», когда вышел он на эстраду. Не было и подобия веселого ужина в своей среде. Ресторан и ресторан. У меня заключительный банкет вызвал еще более ясное чувство неорганичности, беззаконности происходящего, чем предыдущие дни. Все разбрелись по фойе. Играл джаз. Иные танцевали. Иные проповедовали. Толстяка австрийца в коротеньких штанах познакомили с Ильфом и Петровым и сказали ему, что это авторы «Двенадцати стульев». «Не понравилось», — заорал австриец свирепо. Ильф, большой, толстогубый, в очках, был одним из немногих объясняющих, нет, дающих Союзу право на внимание, существование и прочее. Это был писатель, существо особой породы. В нем угадывался цельный характер, внушающий уважение. И Петров был, хоть и попроще, но той же породы. Благодарен и драгоценен был Пастернак. Сила кипела в Шкловском. Катаев был уж очень залит, и одежда была засалена — чечевичной похлебкой. Он не верил в первородство, а в чечевичную похлебку — очень даже.
Впрочем, не он один ходил в сальных пятнах. Спрос на первородство был не так уж велик, а вокруг чечевичной похлебки шел бой, ее рвали из рук друг друга, обливались. Впрочем, иные сохраняли достойный вид. Ухитрялись подгонять свои убеждения и свое поведение впритирочку к существующим лимитам. И в массе не уважали друг друга и, жадные и осторожные, отчетливо понимали маневры товарищей по работе. Уважали немногих. Ильфа и Петрова, Пастернака, отчасти Шкловского, хотя, к моему удивлению, поняли его речь, его лад, систему выражаться как‑то смутно, не по — ленинградски, не так, как в конце двадцатых годов. РАПП успел сделать свое дело. Обедами, завтраками и ужинами во все время съезда кормили нас бесплатно в ресторане на Тверской — кажется, как это ни странно, назывался он «Астория». На углу Голенищевского? Где было кафе Филиппова? Не помню. В ресторане играл оркестр, все выглядело по — ресторанному, пышно, только спиртные напитки не подавались. Да и то днем. Вечером, помнится, пили, за свой счет. Оркестр играл [79]:
Этот фокстрот в те дни, летом 1934 года, был так же знаменит, как за десять лет до того «Кирпичики», но не удержался надолго. И именно поэтому, едва вспомню я, услышу «У самовара», как напряженное, невеселое, парадное чувство недолгих дней съезда воскресает во мне. Однажды за нашим столом оказался человек, лицо которого я и узнал, и нет. С него слиняла былая значительность, он оказался меньше ростом. Он был ужасно вежлив. «Кто это?» — «Борис Пильняк». В зале съезда я его не припоминаю. Другой раз увидел я даму.
Похожая на учительницу воскресной школы, нескрываемо радуясь благому делу, которое совершает, излишне громко и умиленно разъясняла она что‑то сердитому делегату с периферии, откуда приезжает обычно подозрительно и воспаленно самолюбивый народ. Делегат мрачно косился на сырую, не по весу подпрыгивающую покровительницу, но та в простоте своей ничего не замечала. Мне сообщили, что это Анна Караваева. То в коридорах, то у колонн обнаруживался вдруг Сергеев — Ценский, суровый, всегда в одиночестве, скрестив руки на груди, осуждающе озирал он присутствующих. Но в позе его ощущалось нечто не отъединяющее, а напротив, объединяющее его со всей массой. Ему что‑то нужно было от презираемых всех. Окружи они его почетом, он милостиво оправдал бы совершающееся. Очень обижен был Демьян Бедный, что не свойственно было его грубо и крепко сколоченной фигуре. Такому не обижаться, а обижать. А он с трибуны прочел вполне бесчувственному съезду стихи Алексея Толстого о бедном, обиженном Илье Муромце: «Вот без старого Ильи‑то как ты проживешь». Обиженным выглядел и Пантелеймон Романов, желтый, больной, с перекошенным лицом. Он тоже говорил о нанесенных ему обидах, и вот ему это шло. Его читательский успех кончился с нэпом, а писатели относились к нему юмористически. Во всем огромном зале он один принимал себя всерьез — и, видимо, не впервые в жизни. В рядах, отведенных для иностранцев, я все разглядывал неподвижное, непонятное мне лицо Эльзы Триоле.
Маленькая, очень сдержанная, со стеклянным блеском как бы ничего не видящих глаз, условно красивая, еще красивая Эльза Триоле занимала меня как существо из другого мира. Я перечитал тогда «Письма не о любви» Шкловского. Как я был робок и связан по сравнению с тем миром, его страстями. И как он был ощутим и человечен рядом с табельными днями, чиновничьим парадом, во время которого я ее увидал. Сегодня мне странно представить себе, что Маршак жил тогда в гостинице, и Чуковский, и Тихонов, и Федин, и Алексей Толстой — все были они в те дни ленинградцами. Когда забежал я как‑то к Маршаку в «Гранд — отель», пришел навестить его армянский поэт, молодой, поджарый, сосредоточенный. Он принес Маршаку в подарок бутылку коньяка и объяснил, что это редкая высокая марка. Сплошь уходит на экспорт. Называется «Без петушиного крику», потому что разливают его по бочкам ночью, до рассвета. И бутылка стояла на столе, а хозяин не догадывался или не хотел позвонить и потребовать рюмки и штопор. С тем мы и ушли. Каждый день отчеты о съезде печатались в газетах. Приехали наши карикатуристы. Особенно славились шаржи Антоновского. И я с восторженным удивлением узнал, что москвичи некоторые пожаловались в президиум съезда, что Антоновский все изображает своих, а их, москвичей, обходит. Эта жалоба даже утешила меня своей откровенностью. Все учитывалось на съезде: кто, в какой гостинице, кого куда позвали, кому дали слово, а кому нет, и даже карикатуры учитывались. Незримые чины, ордена и награды были столь же реальны, как табель о рангах.


























