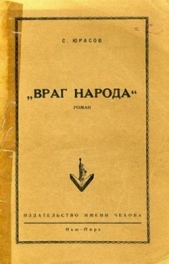Мои воспоминания

Мои воспоминания читать книгу онлайн
В тексте есть многочисленные лакуны.
Детство и школьные годы - Юношеские годы. Революция - Годы военного коммунизма - Время НЭПа - Ссылка на Соловки - Верхне-Уральский изолятор - В ссылке в Чимкенте - По *минусу* в Рязани - На нелегальном положении - И опять в тюрьме - Суздальский политизолятор - 1937 год - Последний этап на Колыму - На Колыме.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шура спросил Колосова о его работе над архивом Михайловского. Мы сразу почувствовали, что задели его любимейшую тему. Евгений Евгеньевич рассказывал о своем знакомстве с Михайловским, о его привычках, костюме, манере речи. Колосов мог говорить о Михайловском часами. Возвращаясь в 1917 году из Италии на родину, Колосов не знал, какие судьбы ждут революцию, и весь архив Михайловского оставил на хранение у своих итальянских друзей. Узнав об архиве, большевики захотели получить его. Итальянцы отказались выдать архив без соответствующих указаний Евгения Евгеньевича. В Суздальский политизолятор к Колосову приезжали Андреева и Катанян. Они просили его передать архив. Евгений Евгеньевич заявил, что если они пустят его в Италию, он будет разрабатывать архив и печатать его, но большевикам, идейным противникам Михайловского, архива он не доверит.
Колосова получила срок два года. Колосов — три. Они рассказали нам о массовых арестах в стране, о повальных арестах среди бывших народовольцев и членов Общества бывших политических ссыльных и каторжан. Убийство Кирова. Волна арестов
Что шли большие аресты, тюрьма чувствовала: поступали все новые заключенные. Как-то вечером постучал нам в стену Шолом. Обычно мы не перестукивались. Зачем? Увидимся на прогулке. Очевидно, что-то срочное. Шолом сообщил, что к ним в камеру привели Алексея Алексеевича Иванова.
Иванов входил в правительство, организованное группой правых эсеров в Архангельске (оккупированном тогда английскими войсками) вне связи с партией, независимо от нее. Позиции, занятые архангельским правительством, были осуждены партией. Все последние годы Иванов жил в Ленинграде. Работал, политикой не занимался. После пятнадцати лет мирной жизни, в 1932 году, его арестовали. За шесть месяцев под следствием его один или два раза привели на допрос и постановлением ОСО заключили в Суздальский политизолятор. Никакого состава преступления ему вменено не было. На все свои запросы о причинах ареста он получал объяснение, что сидит он не за какие-либо совершенные им преступления, а в связи с «политической ситуацией».
Настроение всех, встречаемых нами на прогулке было тяжелое. Люди устали от тюрьмы. Может быть, все усугублялось голодом. Голод был и на воле. В изоляторе нас кормили одной кислой капустой, и та была тухлой. Летом на смену ей приходила пареная крапива. Мы молчали, мы знали, что голодает вся страна.
Камера, в которой жили мы с Шурой была сырая и темная. Состояние моего здоровья резко ухудшилось, и тюремный врач решил направить меня в Москву, в Бутырскую больницу. Мне очень тяжело было отрываться от тюремного коллектива, но пришлось ехать.
В Бутырках меня посадили в строго изолированную камеру. Мне прописали электрический душ, ванны, давали какие-то лекарства. И, самое главное, изумительно кормили. Я получала масло, молоко, яйца, компоты, кисели, мясные блюда, ужины. Диагноз врачей был — нервное истощение на почве малокровия. Трудно лечить нервное истощение в тюремной одиночной камере. Книги у меня были, в остальном я была отрезана от всего мира. Недели две прожила без всякой вести о воле, без связи с кем-либо. И вдруг в маленькой уборной, в которую меня водили на оправку, я прочла над краном на известью выбеленной стене нацарапанные слова:
«Катя, привет!» Быстро затерла я буквы и нацарапала: «Кто вы?»
Наверное, надзиратели больницы отвыкли от связи между заключенными, которую надо было ловить. Впрочем, на том же месте, я прочла: «Возьмите шарик, поставьте крестик». На полу в углу, вжатый в стену, лежал хлебный шарик. Я схватила его. У крана умывальника на стене я поставила крест. В камере я раскрошила шарик. В нем была записочка. «Я — Селивестров. Вывезли из Суздаля вчера. В Ленинграде 1 декабря убит Киров. Как здоровье? Завтра там же».
В голове у меня все помутилось. Кем убит Киров? Как убит? Почему Селивестрова привезли в Москву? Почему на больничное крыло? Что произошло в Суздале?
Утром я оставила записочку в уборной в хлебном шарике. Мой шарик пролежал весь день, ночь и следующий день. Селивестрова, очевидно, куда-то перевели. Вопрос о том, что произошло на воле, мучил меня. В тревоге ждала я конца лечения. Я умоляла врачей выписать меня из больницы. Температура за месяц несколько снизилась. Как из тюрьмы на волю, рвалась я из Бутырок в Суздаль. Там газеты, там товарищи, там жизнь… казалось мне. И наконец меня перевезли!
В Суздале я сразу засыпала Шуру вопросами. Ничего не зная, я связала в одно вызов Селивестрова в Москву и убийство Кирова. Шура сперва ничего не мог понять из моих вопросов. 5 декабря анархист Селивестров был вызван из Суздаля на лечение, никакой связи с событиями 1 декабря и в помине не было. Об убийстве Кирова товарищи узнали из газеты. Первое газетное сообщение смутило их. Как и я, ставили они вопрос, почему Кирова? И кто совершил покушение? Террор признавали и прибегали к нему в царское время эсеры. В период советской власти партия эс-эр признала террор недопустимым. О том, что выстрел могли произвести и коммунисты, никому не приходило в голову. Марксисты всегда были противниками террористических актов. В следующем номере газеты уже были подробные сообщения. Киров был убит выстрелом в затылок. Ни один эсер не выстрелит в спину противника из-за угла. Товарищи успокоились. Почему убит именно Киров, мы не знали, но в наших глазах выстрел был знаком борьбы в рядах коммунистической партии. Для нас неприемлемы были позиции всех течений компартии. Все они говорили о диктатуре, о монопартийной системе, душили всякое инакомыслие. Социалистическое движение было ими сообща раздавлено, разгромлено. Теперь начались столкновения, борьба за власть в их рядах.
Мы жили газетными сообщениями. Мы чувствовали, что назревают какие-то события. Понять их из-за тюремной решетки мы не могли. В соцсектор новых арестантов не поступало. Все социалисты давно уже были загнаны в тюрьмы и ссылки. В комсектор беспрерывно привозили новых заключенных. Мы знали об этом по их крикам в окна.
В начале 1936 года на нашу прогулку выпустили трех новых заключенных. Сиониста-социалиста с Соловков, грузинского социал-демократа с Колымы и социал-демократку Попову из Ленинграда. Впервые подробно узнали мы о режиме новых лагерей. Впервые увидели специфические лагерные костюмы — ватные штаны, телогрейку, бушлат. Сиониста перевели с Соловков по хлопотам родных. Социал-демократ голодал за перевод с Колымы три недели. Тасю Попову я знала по Соловкам она была в числе тех трех студенток, которых мы застали в кремлевской пересылке. Тогда ей было девятнадцать лет. Тогда она не принадлежала ни к какой политической партии. Большевики сами определили ее дальнейший путь. В 1924 году Тасю арестовали на каком-то студенческом собрании. Три года просидела она на Кондострове в группе беспартийных студентов. И ее послали в ссылку еще на три года. Ссыльная среда определила Тасино мировоззрение. Она полюбила социал-демократа Массовера вышла за него замуж, у них родился сын. После ссылки, по хлопотам родителей, она вернулась в Ленинград. Оба устроились на работу. Сынишка рос. Никакой нелегальной работы они не вели. Они встречались с тесным кругом знакомых, в своей среде вели беседы, обсуждали, конечно, общественные и политические события. После убийства Кирова в Ленинграде начались массовые аресты. Арестовали и Тасю с мужем, как арестовали всех, бывших ранее под судом. Все, арестованные по одному делу с Тасей, пошли в ссылку. Тася получила три года политизолятора.
Тасино дело взволновало меня тем, что всколыхнуло прошлое. Предал Тасю и оговорил Вова Коневский. На следствии при очной ставке Тася установила это точно. Может быть, ее не послали в ссылку именно потому, что не хотели, чтобы она сообщила товарищам, кто предал и оговорил их. Я вспомнила мои споры с Примаком, мои упреки ему в жестокости и черствости.
Больше всего Тася убивалась о крошке-сыне, оставшемся со старушкой-матерью в Ленинграде. Тася рассказывала о переполненных тюрьмах, о перегруженных этапных вагонах. Женитьба брата Димы