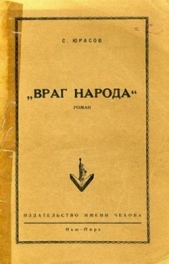Мои воспоминания

Мои воспоминания читать книгу онлайн
В тексте есть многочисленные лакуны.
Детство и школьные годы - Юношеские годы. Революция - Годы военного коммунизма - Время НЭПа - Ссылка на Соловки - Верхне-Уральский изолятор - В ссылке в Чимкенте - По *минусу* в Рязани - На нелегальном положении - И опять в тюрьме - Суздальский политизолятор - 1937 год - Последний этап на Колыму - На Колыме.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как-то в ожидании обеда я сидела на койке. Неожиданно отворилась дверь. Вошли двое. Маленький, щупленький, тоненький быстрыми шагами прошел в камеру. Второй, старший, я его уже узнала, остановился у дверей.
— Я начальник внутренней тюрьмы ОГПУ. Прошу встать, — отрапортовал тонкий.
Я удивленно смотрела. Такого со мной еще не случалось. По традиции еще с царских лет политзаключенные не вставали при входе начальства. Ко мне до сих пор не предъявляли такого требования. Пораженная, не успев подумать, подняв удивленно брови, я сказала:
— Ну, положим, я не встану.
Не успела я закончить свою фразу, как начальник круто повернулся и пошел к двери. В дверях он остановился и бросил надзору:
— На оправку из камеры не выпускать! От изумления я раскрыла рот, а потом рассмеялась. Новая мера воздействия. Им уже нечего отнять у меня. Отнимают выливание и вымывание параши! Что ж, они сами будут ее выносить, что ли? И что я теряю от этого?
Вечером меня не выпустили на оправку. Не выпустили утром. И на следующий вечер. Я ходила по камере и улыбалась. Я сочинила стихотворение о начальнике, о параше, которая постепенно наполнялась остатками еды, водой и всем остальным. Я помню из него два куплета. Ну, положим, я не встану.
— А, хотите продолжать! Надзиратель, запрещаю На оправку выпускать!
Удивленно смотрит Катя И не может разрешить. Ты скажи, параша, сколько Можешь дней в себя вместить?
Шутка превращалась в жизнь. Параша наполнялась. По моим расчетам емкости ее хватило бы еще дня на три. Я попросила дежурного надзирателя бумаги и карандаш для подачи заявления. Получив их, я написала моему следователю примерно так:
«В связи с тем, что по распоряжению начальника внутренней тюрьмы меня не выпускают из камеры на оправку, и я не имею возможности вылить парашу, как только параша наполнится до краев, я вынуждена буду прекратить прием пищи, чтобы параша не проливалась на тюремный пол».
Улыбаясь, дала я свое заявление надзирателю. В тот же день меня вызвали к следователю.
— Что у вас там опять происходит? — спросил он меня.
— Ничего, кроме того, о чем я вам написала. Следователь просил меня рассказать ему все подробно. Я предложила ему обратиться к начальнику тюрьмы.
— Но я не могу понять, чего вы требуете?
— Я ничего не требую. Не могу же я требовать права выливать парашу хотя бы раз в сутки.
— Можете идти, — сказал следователь. — Завтра или послезавтра я вызову вас на допрос. Через полчаса или через час после моего возвращения в камеру меня выпустили с парашей в уборную. Через неделю, в очередной обход начальника, ни он ни я не упомянули о происшедшем. Только через три недели меня вызвали на допрос. К удивлению, я увидела за столом не моего следователя, а какого-то совсем молодого человека. Допрос он вел грубо, какими-то окриками.
— Кто кроме вас и Федодеева входил в группу? Кто вам оказывал содействие при побеге?
Довольно спокойно я ответила, что у моего следователя запротоколирован мой отказ отвечать на подобные вопросы.
— Я заставлю вас ответить! — крикнул он, стукнув кулаком по столу.
— Кричать я умею не хуже вашего, — сказала я. — В таком случае я с вами разговаривать не буду.
Внезапно зазвонил телефон. Следователь вызвал конвоира и велел отвести меня, заявив, что допрос продлится завтра.
Дрожа от возмущения и злости, вернулась я в камеру. Ни завтра, ни послезавтра меня на допрос не вызывали. Через неделю меня снова перевели в мою бутырскую одиночку Я снова получила газеты, книги, передачи Красного Креста. Для чего меня возили на Лубянку?.. Снова в Бутырках — в общей камере
Одиннадцать месяцев просидела я в одиночной подследственной камере. Я привыкла к своему одиночеству. И когда надзиратель как-то вечером пришел и сказал, что меня переводят в другую камеру, я не захотела идти. Надзиратель успокаивающе сказал: — Да вас в общую.
Вот этого я-то и боялась.
Я не верила в возможность встретить в тюрьме товарищей, политзаключенных-женщин. Попасть к спекулянткам, к уголовным — я не хотела. Я потребовала вызова старшего. Ждать мне не пршлось. Старший был в коридоре.
— Придется вам пойти. Камера ваша нужна. Мы все крыло ремонтируем. Да и переводят вас к людям хорошим.
Старшие за одиннадцать месяцев присмотрелись ко мне. И он уговорил меня идти. Он обещал принять мое заявление к начальнику. Я собрала свои вещи. Из камеры бралось все — и тюфяк, и одеяло, и книги, и газеты. Мы прошли недалеко. Спустились этажом ниже. Вещи нес старший. Я несла книги и газеты.
Камера, в которую я вошла, была точь-в-точь такой, как моя. Но стояло в ней четыре койки. И сидели две женщины. Две койки были застланы. На одну из свободных положила я свой узел. Положив газеты и книги, я повернулась к старшему:
— Давайте бумагу для заявления.
Он подал мне бумагу и карандаш. Мысленно я уже писала заявление — или приговор или одиночка — в общей подследственной камере я сидеть не буду.
— Газету вы завтра принесете мне сюда?
— Да, — ответил старший и ушел.
Тогда я обернулась к своим сокамерницам:
— Давайте знакомиться. Я — Олицкая. По делу эсеров. Молоденькая, приятная на вид женщина, сказала:
— Я — Мара Ловут. Старушка промолчала. — Вы по какому делу? — спросила я. Теперь промолчали обе.
— То, в чем обвиняет следователь, вы смело можете говорить… Меня перебила старушка.
— А вы по какому?
— Я — эсерка. Взята после побега из ссылки с нелегального положения одиннадцать месяцев назад…
Старушка только пожевала губами.
— Где же вы были эти одиннадцать месяцев? — спросила Мара.
— В Бутырках в одиночке. Возили на месяц во внутреннюю.
— И газеты получаете на подследственном? — спросила старушка.
— Получаю после голодовки, — ответила я. Старушка замолчала. И тут я поняла, что мои сокамерницы относятся ко мне с подозрением. Я разостлала постель и села на койке писать заявление.
— А нам бумагу для заявления дают только в день обхода, — сказала Мара.
— Я потребовала сразу, когда объявили о переводе. Я не буду сидеть в общей камере, я требую одиночку.
— Разве одиночки лучше? — удивилась Мара.
— Мне лучше.
— Вы сказали, что вы эсерка, — спросила старушка. — А где вы были раньше?
— На Соловках, потом в Верхне-Уральском политизоляторе, потом в ссылке в Чимкенте.
— А я здесь в Бутырках тоже с одной эсеркой встретилась. С Колосовой. — Колосова арестована?! — я подскочила на койке. — А ее муж?
— И муж тоже.
— Но за что? Ведь Евгения Евгеньевича ни разу не арестовывали с 1917 года. Он вел легальную литературную работу.
Старушка попросила меня рассказать о Соловках. После одиночного заключения мне приятно было говорить. Но старушка быстро перебила меня.
— Кого вы лично знали на Соловках? Мне почудилось, — допрос с пристрастием, — но об этом я могла говорить.
— Разве всех перечислишь, — улыбнулась я. — Иваницкий, Мухин, Фельдман, Тарасов…
— Тарасов — мой муж, — сказала старушка.
— Борис Растович? — я сидела уже у нее на койке и пожимала ей руки. Теперь, верит она мне или нет, я могла говорить о прошлом без конца. Я хотела знать о Борисе Растовиче. Когда я назвала фамилию моего мужа, оказалось, что Тарасова знает Шуру. Наш разговор перебил надзиратель. Он просил вернуть карандаш и сдать заявление. Карандаш я отдала, заявление на его глазах порвала и бросила в парашу. Я решила остаться в камере. Мне показалось, что надзиратель усмехнулся. Чёрт с ним, я спешила вернуться к разговору с Тарасовой.
От нее я узнала о больших арестах весной 1932 года. Арестовано много старых эсеров, никогда не арестовывавшихся при советской власти, спокойно, легально живших в Москве и работавших: Колосов, его жена, Ховрин и др. Тарасова говорила, что арестовано много сотрудников Красного Креста, помогавших Пешковой в ее работе. В числе последних была и Тарасова. Причина ареста непонятна, ей обвинение до сих пор не вручено, хотя она сидит уже почти полтора месяца. Мы разговаривали, а Мара сидела в стороне на своей койке, грустно опустив голову. Нам стало жаль ее, мы решили и ее втянуть в разговор. И мы перешли на тюремные дела.