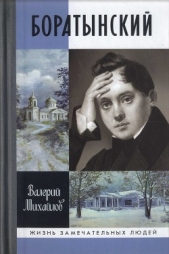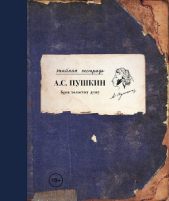Арина Родионовна

Арина Родионовна читать книгу онлайн
Вниманию читателей предлагается научно-художественное жизнеописание Арины Родионовны Яковлевой (Матвеевой; 1758–1828) — прославленной мамушки и подруги Александра Пушкина. Эта крепостная старуха беззаветно любила своего ангела Александра Сергеевича — а поэт не только отвечал ей взаимностью, но и воспел няню во многих произведениях. Почитали Арину Родионовну и пушкинские знакомцы: князь П. А. Вяземский, барон А. А. Дельвиг, А. П. Керн, H. М. Языков и другие. Её имя фигурирует и в ряде мемуаров того неповторимого времени. Позднее, уже в иные эпохи и при разных обстоятельствах, об удивительной женщине проникновенно отзывались А. А. Григорьев, И. С. Аксаков и Ф. М. Достоевский, Марина Цветаева, С. Л. Франк и прочие наши знаменитости. Арина Родионовна была воплощением Русской Музы… И „доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит“, — будет живо о ней предание , — утверждал, например, поэт и пушкинист В. Ф. Ходасевич.
Достоверных материалов для биографии Арины Родионовны сохранилось очень мало. Однако историк и писатель М. Д. Филин, оперируя крупицами имеющихся документов и пушкинскими текстами, создал-таки книгу о жизни голубки дряхлой — книгу о красоте души человеческой, души любящей .
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наталья Савишна, няня maman из «Детства и отрочества», сродна тем двум старушкам, о которых сейчас говорилось. Та же бескорыстная, свободная привязанность в крепостной женщине, но весь её образ граф Толстой обвеял ещё большею теплотой.
Наталья Савишна стоит по характеру своему между няней Татьяны и няней Лизы. Она как-то кажется крепче духом Таниной няни, но не имеет в себе строгого аскетизма Агафьи. Кроме того, по размерам таланта Толстого, Наталья Савишна ярче, виднее нам, и из двух глав, где она описана (глава XIII — «Наталья Савишна» и глава XXVIII — «Последние грустные воспоминания»), выступает пред нами вся, с малейшими оттенками своих чувств.
Если по обаятельности своей maman «Детства и отрочества», по силе любви, по какой-то грустной нежности должна быть названа первым, лучшим типом матери в нашей литературе, превосходя даже созданные тем же Толстым трогательные образы княгини Долли («Анна Каренина») и графини Марьи Ростовой (Болконской) «Войны и мира», то и Наталье Савишне принадлежит первенство между нянями, изображёнными русскою литературой.
«С тех пор, как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, её любовь и ласки; но теперь только умею ценить их, — тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь её была любовь и самопожертвование. Я так привык к её бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов, а что, счастлива ли она? довольна ли?
Бывало, прибежишь от урока в её комнату, усядешься и начинаешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь её присутствием. Всегда она бывала чем-нибудь занята: или вязала чулок, или записывала бельё, и, слушая всякий вздор, который я говорил, как „Когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Иваныча из Саксонии“ и т. д., она приговаривала: „Да, мой батюшка, да“».
А вот изумительная картина — Наталья Савишна и Николенька говорят о только что умершей, но ещё не схороненной maman.
«Она сложила руки на груди и взглянула кверху; впалые влажные глаза её выражали великую, но спокойную печаль. Она твёрдо надеялась, что Бог ненадолго разлучил её с тою, на которой столько лет была сосредоточена вся сила её любви.
— Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я её ещё нянчила, пеленала, и она меня Наташей называла. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнёт целовать и приговаривать:
— Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя.
А я, бывало, пошучу — говорю:
— Неправда, матушка, вы меня не любите; вот дай только вырастите большие, выйдете замуж и Нашу свою забудете.
Она, бывало, задумается. Нет, говорит, я лучше замуж не пойду, если нельзя Нашу с собою взять; я Нашу никогда не покину. А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница. Да кого же она не любила, правду сказать! Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя; это не человек был, а ангел небесный. Когда её душа будет в царствии небесном, она и там будет вас любить, и там будет на вас радоваться.
— Отчего же вы говорите, Наталья Савишна, когда будет в царствии небесном? — спросил я. — Ведь она, я думаю, и теперь уже там.
— Нет, батюшка, — сказала Наталья Савишна, понизив голос и усаживаясь ближе ко мне на постели, — теперь её душа здесь.
И она указывала вверх. Она говорила почти шёпотом и с таким чувством и убеждением, что я невольно поднял глаза кверху, смотрел на карнизы и искал чего-то.
Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день; её тихие слёзы и спокойные, набожные речи доставляли мне отраду и облегчение.
Но скоро нас разлучили, и я никогда больше не видал Натальи Савишны, которая имела такое сильное и благое влияние на моё направление и развитие чувствительности».
Описание последних дней Натальи Савишны, её приготовления к смерти, её распоряжения — как она сдаёт по описи сундуки и завещает четыре штуки жалованного ей давно господского платья молодым господам, описание её кончины — всё это сокровища поэзии…
Какое же впечатление оставила она по себе в человеке, которому было десять лет при её смерти?
Она совершила, — заканчивает гр<аф> Толстой свой рассказ о ней, — лучшее и величайшее дело в этой жизни — умерла без сожаления и страха.
«Её похоронили, по её желанию, недалеко от часовни, которая стоит на могиле матушки. Заросший крапивой и репейником бугорок, под которым она лежит, огорожен чёрною решёткой, и я никогда не забываю из часовни подойти к этой решётке и положить поклон.
Иногда я молча останавливаюсь между часовней и решёткой! Мне приходит мысль: неужели Провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них?..»
Скажите теперь: люди, которым выпало на долю детство, согретое такими людьми, могут ли нравственно погибнуть в жизни?
Ведь человек образуется, главным образом, соответственно тому, сколько любви было на него излито в его детские годы.
Наталья Савишна, Савельич, Евсеич (дядька Багрова внука) лишь дополняли свою долю сердечного тепла к той силе любви, которою окружали детей их матери. А в таких домах, как Пушкины, как семья Лариных, где мы не видим нравственной близости Тани с её матерью, как семья Марьи Дмитриевны Калитиной, женщины сухосердечной, несмотря на её восторженность, деланной, — там няни и дядьки заменяли детям то, чего не хватало в родительских чувствах, понимая жизнь, подобно Наталье Савишне, лишь как одну беззаветную любовь.
И образовался тот обаятельный мир русской детской, который так тепло и нежно рисовал С. Т. Аксаков, воспевал Хомяков. В этом мире русские матери, русские дядьки и няни в длинные ночи вымаливали пред тёмными от времени семейными иконами, в сиянии лампады, счастье детей. Там набирались действительных сил и незаменимых впечатлений родины те птенцы старых дворянских гнёзд, которые, несмотря на то, что потом лучше, чем теперешние, узнавали Европу, её языки и книги, были прежде всего русскими людьми и больше всего тем дорожили.
И потому они служили своей земле действительной осязательною службою, с вдохновением творчества, как «орлы Екатерины», как Карамзины, Пушкины, Муравьёвы. Они могли служить земле в первых рядах народа и вести его так, чтобы народ и в мире дружно шёл за ними, и в бою лез за ними без страха, на смерть или победу на вдесятеро сильнейшего врага, потому что они знали этот народ и сами были народ. Были одних взглядов, одних чувств, одного настроения, одной безусловной с ним веры; и весь народ, вся земля единодушным, неуловимым голосом чувства, со страстностью, признавала их, как, например, Кутузова, своими и требовала их себе в вожди.
Всё это так было…
Теперь чахнет — и не к нашему, увы, счастью — поэзия русских детских, среди равнодушных в вере родителей, равнодушных к детям приставников, быстро сменяющихся. Растут дети не в преданиях старины, непрерывною цепью подымающихся к прошлым векам — векам святых, векам безбрежной веры и богатырских чувств, — а на юру, кое-как, готовясь умножить собою безотрадные ряды ничем не связанной с родиной, не понимающей свой народ и им не понимаемой, беспочвенной толпы.
Бледнеет русский тип в образованных людях.
Оторванным большею частью от деревни, то есть от земли и народа, развивающимся в городах, на руках обезличенных родителей, а то под надзором воспитателей или иностранцев, или «всечеловеков», — откуда детям образованных классов набраться русского духа?
Всё меньше таких людей, о которых можно бы сказать, что в них жизненно бьётся то, что всего лучше означить словами «вечно русское», — и люди чисто русского склада должны аукаться между собою, как в дремучем лесу.