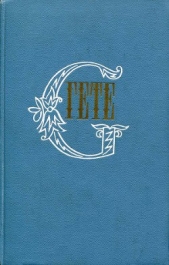Разговоры с Гете в последние годы его жизни
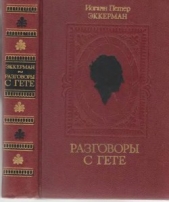
Разговоры с Гете в последние годы его жизни читать книгу онлайн
Многолетний секретарь Иоганна Вольганга Гёте Иоганн Петер Эккерман (1792–1854) долгие годы вёл подробнейшую запись своих бесед с великим немецким поэтом и мыслителем. Они стали ценнейшим источником для изучения личности Гёте и его взглядов на жизнь и литературу, историю и политику, философию и искусство. Книга Иоганна Эккермана позволяет нам увидеть Гёте вблизи, послушать его, как если бы мы сидели рядом с ним. В тоже время, Эккерман не попадает в ловушку лести и угодничества. Его работа отмечена желанием быть как можно более объективным к великому современнику и в тоже самое время глубокой теплотой искренней любви к нему…
Широкий охват тем, интересовавших Гёте, добросовестность и тщательность Эккермана помноженные на его редкостное литературное мастерство, сделали эту книгу настоящим памятником мировой культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я с радостью ему это пообещал.
— Феномен нижней части огонька, где прозрачная светлота на темном фоне создает синеву, я покажу вам сейчас в увеличенном виде. — Он взял ложку, налил в нее спирту и зажег его. И передо мною снова возникла прозрачная светлота, темнота же сделалась синей. Я поднес ложку к темному окну, и синева сделалась гуще; повернул ее к свету, она стала бледнеть и почти вовсе исчезла.
Я с живым интересом наблюдал этот феномен.
— Да, — проговорил Гёте, — величие природы в ее простоте и еще в том, что величайшие свои явления она неизменно повторяет в малых. Тот закон, который вызывает синеву небес, мы наблюдаем в нижней части огонька свечи, в горящем спирте, равно как и в освещенном дыме, подымающемся над деревней у подножия темных гор.
— Но какое объяснение дают ученики Ньютона этому простейшему феномену? — спросил я.
— Вам его знать ни к чему, — отвечал Гёте. — Оно слишком глупо, а вы даже не представляете себе, как вредно умному человеку вдаваться в глупости. Не думайте о ньютонианцах, довольствуйтесь учением в его чистом виде, и с вас этого будет предостаточно.
— Изучение ложных теорий, — сказал я, — в данном случае, пожалуй, так же неприятно и вредоносно, как усердное штудирование плохой трагедии, которую необходимо усвоить во всех подробностях, чтобы уяснить себе ее Полную несостоятельность.
— Да, так оно и есть, — согласился Гёте, — и без нужды этим заниматься не стоит. Я чту математику как возвышеннейшую и полезнейшую науку, покуда ее применяют там, где должно, но не терплю, когда ею злоупотребляют, используя ее в тех областях знания, к которым она никакого касательства не имеет, отчего эта благородная наука сразу же становится бессмыслицей. Словно существует лишь то, что поддается математическому доказательству! Какая ерунда! Вдруг кто-нибудь усомнился бы в любви своей девушки, потому что она не могла бы математически таковую доказать! Приданое, возможно, и подлежит математическому доказательству, но не любовь. Математики не открыли метаморфозу растений! Я сделал это без всякой математики, а математикам пришлось принять мое открытие. Для того чтобы постигнуть феномены учения о цвете, достаточно уменья наблюдать и здравого разума, но и то и другое, увы, встречается реже, чем можно было бы предположить.
— Как современные французы и англичане относятся к учению о цвете? — спросил я.
— Каждая из этих наций, — отвечал Гёте, — имеет свои преимущества и свои недостатки. Англичане хороши уже тем, что они практики, но они и педанты. Французы умны, но им во всем важна позитивность, а ежели таковая отсутствует, они ее изобретают. Но в учении о цвете они идут по правильному пути, и один из их крупнейших ученых уже недалек от истины. Он говорит: цвет присущ всему. И как в природе имеются окисляющие вещества, так имеются и красящие. Разумеется, это еще не объясняет многоразличных феноменов, но тем не менее в своих рассуждениях он отталкивается от природы и сбрасывает с себя путы математики.
Слуга принес берлинские газеты, и Гёте стал их читать. Он и мне дал одну, по театральным новостям я убедился, что и в Оперном и в Королевском театрах там. ставятся такие же слабые вещи, как у нас.
— Да иначе и быть не могло, — сказал Гёте, — не подлежит сомнению, что из хороших английских, французских и испанских произведений нельзя составить репертуар так, чтобы каждый вечер давать хорошие пьесы. Но разве у народа есть потребность, всегда видеть только хорошее? Времена Эсхила, Софокла и Еврипида были совсем иными: высокий дух им сопутствовал, а значит, всегда живо было стремление к наивысшему и наилучшему. Но в наши дурные времена откуда взяться потребности в наилучшем? И откуда взяться органам для восприятия такового?
— К тому же, — продолжал Гёте, — люди хотят чего-то нового. Что в Берлине, что в Париже — публика одинакова. В Париже еженедельно пишут и дают на подмостках неимоверное множество новых пьес, волей-неволей смотришь пять-шесть никудышных, покуда одна хорошая не вознаградит тебя за долготерпение.
Поддержать на достойном уровне немецкий театр нынче могут только гастроли. Если бы я еще возглавлял театр, я бы весь зимний сезон приглашал хороших гастролеров. Тогда бы мы не только постоянно возобновляли хорошие пьесы, но и сумели бы направить интерес публики не столько на пьесы, сколько на игру актеров. У нас появилась бы возможность сравнивать, составлять себе суждение, публика стала бы лучше разбираться в театре, а собственных наших актеров пример выдающегося гостя подстегивал бы и понуждал к соревнованию. Как я уже сказал, гастроли и еще раз гастроли, — вы себе даже представить не можете, что из этого проистекло бы и для театра, и для публики.
Мне уже видится время, когда толковый человек, которому это дело по плечу, возьмет на себя руководство четырьмя театрами и обеспечит их хорошими гастролерами. И я уверен, что ему легче будет управляться с четырьмя, нежели с одним-единственным.
Я и дома прилежно размышлял о феномене синей и желтой тени, и хотя он долго оставался для меня загадкой, но после упорных наблюдений что-то все же приоткрылось мне, и мало-помалу я убедился в том, что постиг его природу.
Сегодня за столом я объявил Гёте, что разгадал загадку.
— Вот и отлично, — сказал он, — после обеда вы мне все расскажете.
— Лучше я все напишу, — ответил я. — При устном изложении я, пожалуй, не подыщу правильных слов.
— Напишете вы позднее, — сказал Гёте, — а сегодня вы при мне проделаете опыт и устно его объясните, я хочу быть уверен, что вы на правильном пути.
После обеда было еще совсем светло, и когда Гёте спросил:
— Можете вы сейчас приступить к эксперименту?
Я отвечал:
— Нет.
— Почему? — осведомился он.
— Пока еще Слишком светло, — ответил я. — Мне нужно, чтобы стало смеркаться и огонек свечи отбросил отчетливую тень, и при этом чтобы было еще недостаточно темно и дневной свет освещал бы ее.
— Гм, это, пожалуй, правильно, — сказал Гёте. Наконец начало смеркаться, и я сказал Гёте, что теперь пора. Он зажег восковую свечу и дал мне лист белой бумаги и палочку.
— Ну, вот, теперь приступайте к опыту и комментируйте его.
Я поставил свечу на стол у окна, положил возле нее лист бумаги, и когда я поместил палочку посредине между полосой дневного света и светом от огонька свечи, феномен предстал перед нами во всей своей красоте. Тень, ложившаяся в направлении свечи, оказалась выражение желтой, другая, в направлении окна, доподлинно синей,
— Итак, — спросил Гёте, — отчего же возникает синяя тень?
— Прежде чем объяснить это, — ответил я, — дозвольте мне сказать несколько слов об основном законе, из которого я вывожу оба явления. Свет и тьма это не цвета, это две крайности, меж коих цвета существуют и возникают благодаря модификации того и другого.
На границах этих двух крайностей возникают оба цвета — желтый и синий. Желтый — на границе света, когда мы смотрим на него сквозь мутную среду, синий — на границе тьмы, когда мы смотрим сквозь прозрачную среду. Вернувшись к нашим феноменам, — продолжал я, — мы видим, что палочка, благодаря мощи огонька, отбрасывает отчетливую тень. Эта тень обернулась бы чернотою мрака, если бы я, закрыв ставни, прекратил доступ дневного света. Но сейчас в открытое окно льется дневной свет, образуя освещенную среду, сквозь которую я и вижу темноту тени; таким образом, согласно основному закону, возникает синева.
Гёте рассмеялся.
— Это синева, — сказал он, — ну, а откуда берется желтая тень?
— По-моему, здесь действует закон замутненного света, — отвечал я. — Горящая свеча отбрасывает на белую бумагу свет, уже имеющий чуть приметный оттенок желтизны. Но воздействие дневного света достаточно мощно, чтобы от палочки упала слабая тень в направлении горящей свечи, и эта тень, сколько ее хватает, замутняет свет; таким образом, в соответствии с основным законом, и возникает желтый цвет. Если я ослаблю замутнение, придвинув тень как можно ближе к свече, то мы уже видим светлую желтизну. Если же я усиливаю замутнение, по мере возможности отдалив тень от свечи, желтизна темнеет до красноватого оттенка, более того — до красноты.