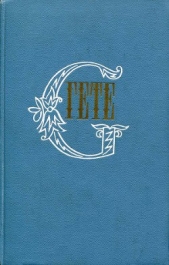Разговоры с Гете в последние годы его жизни
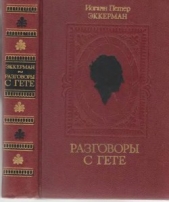
Разговоры с Гете в последние годы его жизни читать книгу онлайн
Многолетний секретарь Иоганна Вольганга Гёте Иоганн Петер Эккерман (1792–1854) долгие годы вёл подробнейшую запись своих бесед с великим немецким поэтом и мыслителем. Они стали ценнейшим источником для изучения личности Гёте и его взглядов на жизнь и литературу, историю и политику, философию и искусство. Книга Иоганна Эккермана позволяет нам увидеть Гёте вблизи, послушать его, как если бы мы сидели рядом с ним. В тоже время, Эккерман не попадает в ловушку лести и угодничества. Его работа отмечена желанием быть как можно более объективным к великому современнику и в тоже самое время глубокой теплотой искренней любви к нему…
Широкий охват тем, интересовавших Гёте, добросовестность и тщательность Эккермана помноженные на его редкостное литературное мастерство, сделали эту книгу настоящим памятником мировой культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С виду ему лет под шестьдесят, держится он прямо» строен, не очень высок, скорее худощав, чем плотен. Я видел, как он садился в карету, собираясь уезжать. В его манере, когда он проходил сквозь толпу зевак, прикладывать палец к шляпе, почти не склоняя головы, было нечто удивительно благожелательное.
Гёте с нескрываемым интересом слушал меня.
— Что ж, вам посчастливилось увидеть еще одного героя, а это что-нибудь да значит.
Мы заговорили о Наполеоне, и я высказал сожаление, что его не видел.
— Что и говорить, — сказал Гёте, — на него стоило взглянуть. Квинтэссенция человечества!
— И это сказывалось на его наружности? — спросил я.
— Он был квинтэссенцией, — отвечал Гёте, — и по нему было видно, что это так, — вот и все.
Я сегодня принес Гёте весьма примечательное стихотворение, о котором говорил ему еще несколько дней назад, стихотворение, им самим написанное, но он за давностью лет его уже не помнил. Оно было напечатано в начале 1766 года в «Зихтбаре», газете, выходившей тогда во Франкфурте; старый слуга Гёте привез это стихотворение в Веймар, ко мне же оно попало через его потомков. Не подлежало сомнению, что это было старейшее из всех известных нам стихотворений Гёте. Тема его — сошествие Христа в ад, причем больше всего меня удивило, как легко давалось юному автору религиозное мышление. По духу своему это стихотворение словно бы вышло из-под пера Клопштока, но написано оно было совсем по-другому: сильнее, свободнее и легче, больше в нем было энергии, совершеннее форма. Удивительный его пыл свидетельствовал о мощной, бурливой юности. Поскольку материала в нем было недостаточно, оно как бы вращалось вокруг собственной оси и потому вышло длиннее, чем следовало бы.
Я положил перед Гёте пожелтевший, уже рассыпающийся листок, и он, взглянув на него, вспомнил свое стихотворение.
— Возможно, — сказал он, — что это фрейлейн фон Клеттенберг побудила меня его написать, в заголовке стоит, «сочинено согласно просьбе»; не знаю, кто еще из моих друзей мог предложить мне подобную тему. Мне тогда вечно не хватало материала, и я бывал счастлив, когда подворачивалось что-то, что я мог воспеть. На днях я наткнулся на стихотворение той поры, написанное по-английски, в нем я сетовал на недостаток поэтических тем. Нам, немцам, в этом смысле туго приходится, наша праистория тонет во мраке, а позднейшая из-за отсутствия единой династии не представляет общенационального интереса. Клопшток попытал было силы на Германе, но эта тема слишком далека от нас, в ней никто не заинтересован, никто не знает, что она, собственно, такое, а потому его труд ни на кого не произвел впечатления и популярности ему не снискал. То, что я напал на Геца фон Берлихингена, — большая моя удача. Он ведь был плоть от плоти моей, а значит, я многое мог из него сделать.
В «Вертере» и «Фаусте» я опять-таки черпал из внутреннего своего мира, удача сопутствовала мне, так как все это было еще достаточно близко. Чертовщиной я позабавился лишь однажды и, радуясь, что таким образом разделался со своим нордическим наследством, поспешил к столу греков. Но знай я тогда так же точно, как знаю теперь, сколь много прекрасного существует уж в течение тысячелетий, я не написал бы ни единой строки и подыскал бы себе какое-нибудь другое занятие.
Нынче за обедом Гёте пребывал в самом веселом и благодушном настроении; его обрадовал полученный сегодня ценный дар, а именно: листок с собственноручным посвящением ему Байронова «Сарданапала». Он показал его нам, так сказать, «на десерт», настойчиво прося свою сноху возвратить ему письмо Байрона из Генуи.
— Пойми, дитя мое, — говорил он, — у меня теперь собрано все, касающееся наших отношений с Байроном, даже этот удивительный листок сегодня каким-то чудом вернулся ко мне, недостает только генуэзского письма.
Но прелестная почитательница Байрона не желала поступаться своим сокровищем.
— Вы подарили мне его, дорогой отец, — сказала она, — и я ни за что его вам не возвращу. А если вы хотите подобрать все одно к одному, то лучше отдайте мне ваш драгоценный листок, и я буду хранить его вместе с письмом.
Нет, Гёте на это не соглашался, шутливые их препирательства продолжались еще некоторое время и наконец растворились в общей оживленной беседе.
После обеда, когда женщины поднялись наверх и мы с Гёте остались одни, он принес из своей рабочей комнаты красную папку и, подозвав меня к окну, раскрыл ее.
— Смотрите, — сказал он, — здесь у меня собрано все, что имеет касательство к моим отношениям с лордом Байроном. Вот его письмо из Ливорно, вот оттиск его посвящения, это здесь — мое стихотворение [34], а это то, что я написал о разговорах Медвина, недостает только письма из Генуи, но она не желает его отдавать.
Далее Гёте рассказал мне о дружественном приглашении, связанном с лордом Байроном, которое он получил сегодня из Англии и которое очень его порадовало. Ум и сердце его по этому случаю были полны Байроном, он так и сыпал интереснейшими замечаниями о его личности, его творениях и его прекрасном даре.
— Пусть англичане, — заметил он, между прочим, — думают о Байроне все, что им угодно, но нет у них другого поэта, который мог бы сравниться с ним. Он ни на кого не похож и во многом разительно превосходит всех остальных.
Говорил с Гёте о Стефане Шютце, о котором он отозвался весьма благосклонно.
— На прошлой неделе, когда мне нездоровилось, я перечитал его «Веселые часы», и, надо сказать, с большим удовольствием. Если бы Шютце жил в Англии, он составил бы целую литературную эпоху. А так, одаренный уменьем наблюдать и воссоздавать, он не имел случая вглядеться в подлинно значительную жизнь.
Гёте говорил о газете «Глоб». [35]
— Сотрудники ее, — сказал он, — светские люди, разбитные, ясно мыслящие и не ведающие страха. Даже хуля кого-то или что-то, они остаются галантными и обходительными, тогда как немецкие ученые полагают необходимым ненавидеть всех инакомыслящих. «Глоб», думается мне, интереснейшее из современных изданий, и я уже не могу обойтись без него.
В этот вечер я имел счастье, слушать различные высказывания Гёте о театре.
Я рассказал ему, что один из моих друзей намерен переделать для сцены «Two Foscari» («Два Фоскари» (англ.) Байрона. Гёте усомнился в том, что это ему удастся.
— Дело, конечно, очень соблазнительное, — сказал он. — Если в чтении какая-нибудь вещь производит на нас большое впечатление, мы воображаем, что со сцены она произведет не меньшее и что достигнуть этого можно без особого труда. Но мы роковым образом ошибаемся. Произведение, которое автор создавал не для подмостков, на них не уместится, и, сколько ты над ним ни бейся, в нем все равно останется что-то чуждое, что-то противящееся сцене. Как я работал над моим «Гецем фон Берлихингеном»! А все-таки подлинно театральной пьесы из него не получилось. Он слишком громоздок, и мне пришлось разделить его на две части — вторая, правда, достаточно театральна и действенна, но первую приходится рассматривать только как экспозицию. Если бы можно было лишь однажды представить первую часть, дабы зритель уяснил себе ход событий, а затем, уже неоднократно, давать вторую — это бы еще куда ни шло. Едва ли не то же самое происходит и с «Валленштейном»; «Пикколомини» уже не играют, а «Смерть Валленштейна» публика смотрит с прежней охотой.
Я спросил, в чем, собственно, заключается, театральность пьесы?
— Она должна быть символична, — отвечал Гёте. — Иными словами: надо, чтобы любое событие в ней было значительно само по себе и в то же время возвещало бы нечто более важное. Наилучшим образцом в этом смысле является «Тартюф» Мольера. Вспомните первую сцену — какая великолепная экспозиция! С самого начала все в высшей степени значительно и подготовляет нас к новым, еще более значительным, событиям. Превосходна также экспозиция Лессинговой «Минны фон Барнхельм», но экспозиция «Тартюфа» — единственна, лучшей экспозиции в мире не существует.