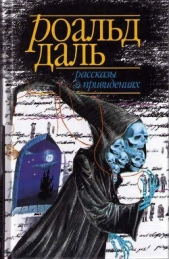Моя биография

Моя биография читать книгу онлайн
Чаплин стал легендой еще при жизни — живой легендой кинематографа. И в наши дни, когда число «звезд» Голливуда уже сопоставимо с числом звезд на небе, символом кино по-прежнему остается он, вернее, созданный им бессмертный образ — Чарли, нелепый человечек в огромных ботинках с маленькими усиками и громадными печальными глазами. В комических короткометражках начала века десятки героев падали, кувыркались, швыряли друг в друга кремовые торты. Делал это и Чарли. Но в его фильмах герой все чаще стремился не просто рассмешить зрителя, но и пробудить в нем добрые чувства. Кинематограф из простой забавы со временем превратился в высокое искусство — и этим все мы не в последнюю очередь обязаны гению Чарльза Чаплина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но иногда решение приходило именно в конце дня, когда я впадал в отчаяние, перебрав десятки вариантов и от всех отказавшись. Вот тут-то мне вдруг все становилось ясным, словно с мраморного пола сметали пыль и открывалась та прекрасная мозаика, которую я так долго искал. Уныние рассеивалось, и работа закипала. Мистер Колфилд смеялся уже по-настоящему.
Ни один актер из моей группы ни разу не получил травмы во время съемок. Все драки тщательно репетировались, как хореографический номер. Пощечины никогда не бывали настоящими. Какой бы дикой ни представлялась свалка, на самом деле каждый ее участник знал, что и когда он должен делать. Травмы в кино непростительны, поскольку и драку, и землетрясение, и кораблекрушение, и любую катастрофу можно подделать с полной убедительностью.
За все время у нас произошел только один несчастный случай. В одном из эпизодов «Тихой улицы», когда я нахлобучивал уличный фонарь на голову хулигана, чтобы отравить его газом, крышка фонаря отломилась и острый металлический край поранил мне переносицу так, что пришлось наложить два шва.
Пожалуй, работа в «Мючуэл» была самым счастливым периодом моей творческой жизни. Мне было двадцать семь лет, меня не обременяли никакие заботы, а будущее сулило быть сказочным. Скоро я должен был стать миллионером — все это чуть-чуть смахивало на бред. Деньги лились рекой. Десять тысяч долларов, которые я получал каждую неделю, собирались в сотни тысяч. Только что у меня было четыреста тысяч, а теперь уже полмиллиона; я никак не мог в это поверить.
Мэксин Эллиот, приятельница Дж.-П. Моргана, как-то сказала мне: «Деньги хороши тем, что о них можно забыть». Я же скажу, что о них неплохо и помнить.
Бесспорно, успех меняет в жизни человека все. Когда меня с кем-нибудь знакомили, новый собеседник неизменно смотрел на меня с огромным интересом. Хотя я был всего только выскочка, мое мнение приобрело большой вес. Случайные знакомые всегда готовы были предложить мне горячую дружбу и делить со мной все тяготы и тревоги, как самые близкие родственники. Это было очень лестно, но это было не по мне. Друзья, как и музыка, нужны мне только в определенном настроении. Правда, за такую свободу приходилось иногда расплачиваться одиночеством.
В один прекрасный день, когда уже почти истекал срок моего контракта с «Мючуэл», ко мне в спальню, в клубе «Атлетик», ворвался Сидней и весело объявил:
— Ну, Чарли, теперь ты миллионер! Я договорился с «Фёрст нейшнл» [61]. Ты сделаешь для них восемь комедий в двух частях за миллион двести тысяч долларов!
Я только что вылез из ванны и расхаживал по комнате, препоясав чресла мохнатым полотенцем и наигрывая на скрипке «Сказки Гофмана».
— Что же, по-моему, это замечательно.
Сидней расхохотался.
— Это я непременно запечатлею в своих мемуарах: голый, с одним полотенцем на бедрах, ты играешь на скрипке и с полным равнодушием выслушиваешь известие о том, что я подписал за тебя контракт на миллион с четвертью!
Готов признать, что я чуть-чуть позировал, — но ведь эти деньги еще нужно было заработать.
Перспективы такого богатства не изменили моего образа жизни. Я уже начинал привыкать к богатству, но еще не научился им пользоваться. Деньги казались мне каким-то символом в цифрах — ведь я ни разу не видел их воочию. Необходимо было что-нибудь сделать, чтобы поверить в их существование. Поэтому я обзавелся секретарем, лакеем, автомобилем и шофером. Проходя как-то мимо демонстрационного зала автомобилей, я увидел семиместный «локомобиль», который в то время считался в Америке лучшей машиной. Но он был слишком великолепен и слишком элегантен, чтобы можно было вообразить, что он продается. Тем не менее я вошел в магазин и спросил:
— Сколько?
— Четыре тысячи девятьсот долларов.
— Заверните, — сказал я.
Приказчик был потрясен и попытался, хотя и слабо, оказать сопротивление моей поспешности.
— Может быть, вы сначала проверите мотор? — спросил он.
— А зачем? Я все равно ничего в них не смыслю, — ответил я, но тем не менее потыкал большим пальцем в шину, чтобы не казаться совсем уж профаном.
Вся операция была очень проста: мне оставалось только подписать свое имя на листке бумаги — и машина уже стала моей.
XIII
В то время мою студию часто посещали знаменитости — Мельба, Леопольд Годовский и Падеревский, Нижинский и Павлова.
В Падеревском было много обаяния, и вместе с тем в нем был и какой-то оттенок мещанства, может быть, в чрезмерной важности, с какой он держался. Длинные волосы, сурово отвисающие усы и маленькая эспаньолка под нижней губой — несомненный признак тайного тщеславия — были весьма внушительны. Но во время его концертов, когда потухал свет, воцарялась строгая, даже благоговейная тишина, и Падеревский уже собирался сесть за рояль, я всегда боялся, что вот сейчас, в последнюю минуту, кто-то выдернет из-под него стул.
Во время войны я встретился с ним в Нью-Йорке, в отеле «Ритц», и, очень обрадовавшись, спросил, не собирается ли он дать концерт. С величавостью папы римского он мне ответил: «Когда я нахожусь на службе моей родины, я не даю концертов».
Падеревский был в то время премьер-министром Польши. Но, думается, прав был Клемансо, который во время конференции, обсуждавшей условия злополучного Версальского мира, сказал ему:
— Как это случилось, что такой талантливый артист, как вы, мог пасть так низко, чтобы стать политиком?!
С другой стороны, великий пианист Леопольд Годовский, небольшого роста человек с круглым, улыбающимся лицом, был всегда прост и весел. Дав в Лос-Анжелосе концерт, он решил там поселиться, снял в аренду дом, и я стал довольно частым его гостем. По воскресеньям мне позволялось слушать, как он упражняется, и я видел, с какой исключительной легкостью его необыкновенно маленькие руки преодолевали все трудности техники.
Нижинский пришел на студию вместе с другими русскими танцорами и балеринами. Серьезный, удивительно красивый, со слегка выступающими скулами и грустными глазами, он чем-то напоминал монаха, надевшего мирское платье. Мы тогда снимали «Лечение». Он сел позади камеры и, ни разу не улыбнувшисъ, смотрел, как я снимаюсь в эпизоде, который мне казался очень смешным. Остальные зрители смеялись, но лицо Нижинского становилось все грустнее и грустнее. На прощанье он пожал мне руку и, сказав своим глуховатым голосом, что моя игра доставила ему большое наслаждение, попросил разрешения прийти еще раз.
— Разумеется, — ответил я.
Еще два дня он все с тем же мрачным лицом наблюдал за моей игрой. На второй день я велел оператору не заряжать камеру — унылый вид Нижинского действовал столь угнетающе, что у меня ничего не получалось. Тем не менее после «съемки» он похвалил меня.
— Ваша комедия — это балет, — сказал он. — Вы прирожденный танцор.
Я тогда еще не видел русского балета, да и никакого другого вообще. И вот в конце недели меня пригласили на утренник. В театре меня встретил Дягилев, полный жизни, влюбленный в свое искусство человек. Он извинился за то, что в программу не входят балеты, которые, по его мнению, доставили бы мне наибольшее удовольствие.
— Обидно, что сегодня мы не даем «Послеполуденный отдых фавна», — сокрушался он. — Мне кажется, эта вещь в вашем вкусе.
И вдруг, быстро обернувшись к режиссеру, добавил:
— Скажите Нижинскому, что после антракта мы покажем Шарло «Фавна».
Первым шел балет «Шехеразада». Он оставил меня довольно равнодушным — тут было слишком много пантомимы и слишком мало танца, а музыка Римского-Корсакова показалась мне однообразной. Но следующим номером было па-де-де с Нижинским. В первую же минуту его появления на сцене меня охватило величайшее волнение. В жизни я встречал мало гениев, и одним из них был Нижинский. Он зачаровывал, он был божествен, его таинственная мрачность как бы шла от миров иных. Каждое его движение — это была поэзия, каждый прыжок — полет в страну фантазии.

![За стеклом [Коламбия-роуд]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)