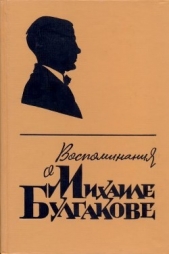О времени, о Булгакове и о себе
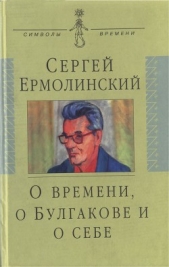
О времени, о Булгакове и о себе читать книгу онлайн
С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».
Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.
В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я взвалил корзинку на плечи, попрощался с Мишей Герасимовым. Он пошел по Садовой, в Оружейный, где жила его сестра, а я — через центр на Мясницкую, в Армянский переулок. Там в помещении бывшего Лазаревского института обосновался наш новый Восточный институт, из которого впоследствии возникли Институт востоковедения и Институт трудящихся Востока. В дортуарах лазаревских лицеистов разместились мы, первые советские «восточники».
Москва предстала передо мной засугробленная, словно брошенная людьми, с темными заколоченными витринами, с нежилыми домами. Следы октябрьских пуль еще виднелись на облупившихся стенах домов и подворотен. И чем далее от вокзала, тем реже попадались прохожие. Волокли санки, шли сгорбившись под грузом вещевых мешков. У хлебной лавки вилась очередь. На спинах мелом были написаны номера.
Такой я увидел Москву впервые, если не считать совсем детских воспоминаний, когда привозил меня сюда отец [4]. Запомнилось шумное движение на тесных улицах, пестрота газетных киосков, коридор гостиницы «Кремль», душный, в самоварном угаре. Отец показывал мне московскую старину — царь-колокол, царь-пушку — и здание Университета, в котором он учился. Его рассказы о Бронных уличках, о студенческих Козихах, о Татьянином дне, о «Гаудеамус игитур» запомнились с детства. И с детства я мечтал об Университете. Теперь все было молчаливо-пустынно. Даже узкая Моховая, когда-то густо набитая лавками книгоиздателей и букинистов, казалась просторной. Все было непохоже на воспоминания, но Университет я узнал сразу.
Он возник исполином, живой и реальный. Я остановился у решеток его ограды. Во дворе нового здания было оживленно. Здесь Москва кипела! Люди в солдатских шинелях, с горками книг под мышкой деловито перебегали двор из одного подъезда в другой, тут помещался Рабфак. У большинства из них были буденновские шлемы или лихо заломленные папахи, украшенные красными звездами. Они были такие же красноармейцы, какие во множестве штурмовали поезда, валялись на вокзалах, толкались на базарах, дымили самосадом. — Глупо, что на мне допотопная студенческая фуражка, — думал я, шагая дальше. А ведь радовался, когда наконец разыскал ее на калужской толкучке. Глупо. Старая, выгоревшая фуражка, приплюснутая, как блин, — она оказалась ничуть не лучше вырванной кокарды из околыша чиновника… Папиного университета не существовало.
На Театральной площади поднялась поземка. Большой театр плыл из тумана, угрюмый и тоже казавшийся нежилым. Я посидел немного в сквере, потому что устал, да и корзинка моя развязалась, веревка съехала набок.
В корзинке было нехитрое мое барахло — две пары бязевого солдатского белья, кальсоны с тесемками, летняя гимнастерка, портянки. Под старой гимназической шинелью, из которой я вырос (а пуговицы были пришиты разные), был на мне суконный френч зеленого цвета, черные кожаные штаны, заправленные в расхлябанные сапоги с широкими короткими голенищами. У меня были длинные волосы, стриженные под скобку, прямыми палками торчали из-под студенческого блина. Впрочем, я был одет отнюдь не хуже других, франтить мы начали значительно позже…
… А в Калуге я был в некотором роде знаменитый человек; я разъезжал в наробразовской бричке, запряженной высокой рыжей кобылой, числился «ответственным», получал дополнительный паек, стоял на деревянной трибунке, когда в октябрьские и майские праздники проходили по плац-парадной площади тощие демонстрации обывателей с пением — «мы кузнецы, и дух наш молод…» Словом, еще не окончив школу, я уже возглавлял подотдел Искусств Калужского Губнаробраза. Я был, если хотите, министром изящных Искусств города и окрестностей!
Учреждение наше находилось сначала в особняке бывшего помещика Колоривова, что на спуске к Загородному саду. В большой зале с колоннами вдоль стен стояли столы подотделов и секций. Мы сидели под пальмами и на узких полосках бумаги писали распоряжения. Наименование учреждения, подотдела и секции, дата и исходящий номер изображались наподобие штампа, от руки. Бывшие чиновники, которые возглавляли некоторые секции, налаживали официальную форму написаний казенных бумаг. Они сидели в центре стола, а по бокам и напротив располагались сотрудники — из бывших гимназистов и гимназисток. Переписанные бумажки, они назывались «отношениями», передвигались по столу и подписывались делопроизводителями и заведующим. Мой подотдел отставал в этих тонкостях, но он просуществовал в Кологривовском особняке недолго, его перевели на Молотковскую улицу, в помещение вновь организованного Художественного музея, и там мне удалось, наконец, наладить полнейший канцелярский беспорядок.
В одной из верхних полутемных комнат жил таинственный человек — Гнеденко, художник и фотограф, прежний заведующий подотделом. О нем ходили слухи, что он безнадежно болен и что он непризнанный гений. Он никогда не показывался, и бывал у него только я. Комната была загромождена неотремонтированной музейной мебелью. На креслах, стульях, у стен стояли картины без рам и в рамах, изображавшие один и тот же, я сказал бы, мучительно скопированный пейзаж, и большие окантованные фотографии, раскрашенные от руки. Это и были его непризнанные работы. А сам он, задумчиво вдохновенный, всегда лежал на кушетке. При моем появлении он болезненно морщился.
— Не смотрите, не смотрите, это еще не готово, я еще не доволен, — говорил он раздраженно.
Я покорно переворачивал стоявшую на стуле возле его кушетки картину (все тот же пейзаж).
— Осторожно, еще не просохла, — говорил он и утомленно закрывал глаза.
Маленькая женщина, бесшумно двигаясь, служила ему.
— Сегодня кашлял меньше, сделал два этюда, — благоговея шептала она, и совсем понизив голос: — Нуждаемся в жирах и молоке. Сходила в Губпродком, обещали.
Через год они уехали в Крым, и их комната превратилась в «запасник» музея.
Внизу разместились экспонаты. В большинстве они составились из мебели, бронзы, картин и книг, вывезенных из горящих поместий губернии. Первыми этими экспедициями еще руководил Гнеденко. Я сидел в креслах с фарфоровыми медальонами на спинках. На медальонах были изображены дамы и кавалеры в напудренных париках. Зимою, в ушанке, не снимая шинели и дыша на руки, я углублялся в бумаги, переписанные круглым детским почерком моего секретаря Кости Швабельблита, сына местного портного. Он был веселый и лукавый парень, черный как жук.
В театре я сидел в директорской ложе. Пыльные бархатные занавески с золотыми кистями обрамляли ее. Это была бывшая губернаторская ложа, она до отказа заполнялась теперь приятелями Кости. Фома Строгачов-Бобров, главный режиссер Гортеатра, в прошлом антрепренер и актер, драматический и опереточный, подхватывал меня под руку и, понизив голос, допытывался:
— Говорят, гарнитурчик прибыл не то из Юхнова, не то из Боровска?
— Прибыл.
— Из какой же усадьбы?
— Не знаю еще.
— Знаете. От Шеншиных. Восемнадцатый век. Опять в музей думаете? А надо бы в театр. Нет у нас стильных гарнитурчиков.
— С Малининым посоветуюсь.
— Ну, Дмитрий Иванович не отдаст, — вздыхал Фома, — а народ в театре просвещается, не в музеях, между прочим…
Он враждовал с Краеведческим музеем, директором которого был мой учитель истории Дмитрий Иванович Малинин.
…Гимназия вспоминается мне как предрассветное, холодное утро, когда, неврастенично ежась, входишь в класс с его специфическими запахами мастики и невыдохшегося дыхания сорока человек, смешанного с сырым, свежим воздухом, потому что только что настежь были открыты окна. И потом сидишь где-то в глубине класса, впереди аккуратненькие, под машиночку взятые макушки товарищей, их торчащие и прилизанные уши, сидишь и по-рабьи ждешь, что сейчас вызовут к доске — и будешь стоять столбом, и заученно отвечать, и страдать, что от этой заученности ты жалок и даже угодлив. Я ненавидел гимназию! И февральскую революцию приветствовал, стоя на перевернутых партах с криком: долой!.. А кончал уже «Единую трудовую школу 2-й ступени», в которой все шло вверх тормашками: вольница! Напуганные преподаватели были осторожны и вежливы с нами. Большинство из нас учились спустя рукава. Только Дмитрий Иванович в своем поведении не изменился ни на йоту. Класс замирал, как прежде, когда он входил. Он был сух, деловит, обрывая всякие посторонние разговоры, в которые его хотели вовлечь ученики. Он говорил и позволял говорить только о том, что имело прямое и самое узкое отношение к его урокам.