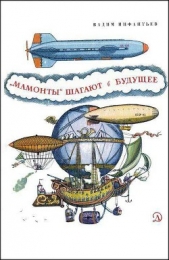Мамонты
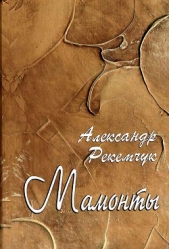
Мамонты читать книгу онлайн
Это — новая книга писателя Александра Рекемчука, чьи произведения известны нескольким поколениям читателей в России и за рубежом (повести «Время летних отпусков», «Молодо-зелено», «Мальчики», романы «Скудный материк», «Нежный возраст», «Тридцать шесть и шесть»).
«Мамонты» — главная книга писателя, уникальное эпическое произведение, изображающее судьбы людей одного семейного рода, попавших в трагический круговорот событий XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дневник свой я веду нерадиво, от случая к случаю. Записи конспективны, куцы, лишены деталей и эмоциональной окраски. Но порой именно в этих записях отыщется то, что кстати. Датировано 1990-м годом.
«5-го июня состоялась встреча с приехавшими в Москву Андреем Донатовичем Синявским и его женой, редактором „Синтаксиса“ Марией Васильевной Розановой. Были Юнна Мориц. Галина Белая, Иосиф Герасимов, Валентин Оскоцкий и др. За обедом Синявский и Розанова отчаянно ругали Солженицына, ругали „Апрель“ за проведение „Солженицынских чтений“. Договорились об издании четырех альманахов „Синтаксис“, а также „Прогулок с Пушкиным“ и „В тени Гоголя“».
Этим планам не суждено было осуществиться. В памяти тоже не осталось ни деталей, ни фраз того темпераментного разговора на веранде Центрального дома литераторов.
Но я помню глаза Синявского: влажные, светлоголубые (один глаз скошен, как у Натали), устремленные бог весть в какие выси, в какие дали… Что видел там его просветленный взгляд?
Взгляд Марии Васильевны был жестче и скептичней.
С ветерком
Наша говорильня приближалась к концу.
В субботу Ласси Нумми пригласил меня на тет-а-тет. Разговор шел через переводчика и, может быть, в натуре его речь была несколько иной, но я воспроизвожу ее так, как она звучала в переводе.
— Мы знаем, — сказал Ласси Нумми, — что завтра в Одессе состоится воскресник. Жители выйдут на улицы с лопатами и мётлами, чтобы убрать все следы холерной эпидемии и карантина. Мы, финские писатели, хотим присоединиться к ним, поработать вместе с одесситами, чтобы вернуть былой блеск прекрасному городу. Пусть нам выделят участок уборки и выдадут мётлы!
Было трудно не оценить этот благородный порыв и то уважение, с которым зарубежные гости отнеслись к советским обычаям: субботник, воскресник…
Но у меня в руках был расписанный по дням и по часам распорядок работы симпозиума, который надлежало выполнять неукоснительно.
— Завтра мы едем в Овидиопольский район, в колхоз имени Дзержинского, — напомнил я коллеге. — Это есть в вашем расписании?
— Да, конечно. Но нам бы хотелось… — продолжал занудствовать Ласси Нумми.
В моей голове мелькнуло предположение, что финны просто устали от щедрого радушия хозяев: ведь мы уже пировали и в ресторане гостиницы, и на борту теплохода «Тарас Шевченко», где в нашу честь дало ужин начальство Черноморского пароходства, и было нетрудно догадаться, что в украинском колхозе нас тоже попотчуют знатно.
— Дорогой Ласси, — сказал я, доверительно взявшись за пуговицу его пиджака, — вы, наши ближайшие соседи и друзья, хорошо осведомлены о том, что в Советском Союзе иногда ощущается дефицит самых необходимых вещей: то за холодильниками очередь, то за телевизорами, то просто за туалетной бумагой… На сей раз в дефиците мётлы. Всё разобрано.
Нам не досталось. Ну, нет метёлок!.. Придется ехать в колхоз.
Ласси Нумми рассмеялся и махнул рукой.
Наутро мы мчались автобусом к Овидиополю.
Из окошка видна была всхолмленная равнина, покрытая зарыжелой осенней травой. Тянулись к окоёму поля, с которых давно уже был снят урожай, и теперь оставалось лишь угадывать, что вот тут, где кустится колючая стерня, колыхалась на ветру пшеничная нива; а здесь, где раскоряченными пугалами торчат обломанные стебли, была кукурузная плантация; а еще дальше — баштан, впрочем, он и сейчас не пуст, лежат в пыльной пороше тыквы, розовые и желтые, такие огромные, что их, может быть, не смогли не то, что увезти, но даже поднять, и они остались здесь, на бахче, памятниками могучему плодородию земли.
То и дело попадались навстречу буковые рощи, похожие на коровьи стада, уже объевшие всю траву окрест, да больше и не нужно — сыта скотина, сбилась плотно, рога в рога, помыкивает, дожидаясь дойки.
Пирамидальные тополя, рядами стоявшие вдоль дороги, на скорости смотрелись многоствольной флейтой Пана, мускалом, на котором в Бессарабии играют протяжные дойны.
Наш автобус несся, не вздрагивая, по бетонке.
Туда. В Овидиополь. В колхоз.
Но память возвращала меня в прошлое, которого я не должен был помнить, но я его, безусловно, помнил и знал даже в деталях.
Тогда еще не было этого широкого асфальтового шоссе, а был проселок, истерзанный, в колдобинах и лужах, в глубоких взрезах колеи…
Не было никакого автобуса, а была обыкновенная телега, на которой я сидел в пуке соломы, подобрав ноги, и мама придерживала мое плечо, чтобы я не свалился в грязь, когда колесо сверзится в яму…
Мама в бедняцкой сермяге бессарабской крестьянки, мужичка…
И я — мужицкое дитя…
Где это было? Когда?
Ничего, разберемся.
А пока — едем дальше. Всё спокойно.
Нам показали всё, что в таких случаях показывают гостям, тем более, когда половина из них — иностранцы, господа хорошие из капстраны Финляндии, да еще писатели. Вот походят, посмотрят, понюхают, поспрашивают, а потом еще и понапишут, а ты за это отвечай…
Честно говоря, я уж и не помню, что именно нам показывали в колхозе имени Дзержинского, потому что за весь свой долгий журналистский и писательский век столько насмотрелся этих процветающих хозяйств, что вся жизнь как бы выстроилась в одну непрерывную поточную линию мычащих коровников, кудахтающих птицеферм — что там еще? ах, да, топочущих копытами и помахивающих хвостами конюшен, — а ты идешь в наброшенном на плечи белом халате, будто доктор Айболит, будто академик Лысенко, и вежливо слушаешь пояснения хозяев, и киваешь, и для порядка выспрашиваешь цифры и факты, а сам косишься украдкой на коллегу-иностранца, как ему всё это — интересно ли, не вонько ли, не измазал ли в навозной жиже свои заграничные штиблеты, вроде бы нет, сухой, — и топаешь дальше, поглядывая на стрелки часов, потому что всё расписано досконально: двадцать минут — коровы, пятнадцать — свиньи, а ровно в полдень — фу ты, ну ты, лапти гнуты, — пресс-конференция в правлении колхоза.
И, всё же, одна подробность этой прогулки по угодьям и службам колхоза имени Дзержинского застряла в памяти.
Мы зашли в колхозный детский сад: в комнате игр с пестро размалеванными стенами, что твой Диснейленд, кружком сидела детвора и, хлопая ладошками, пела всем известную песенку композитора Шаинского про то, как с голубого ручейка начинается река, ну, а дружба начинается с улыбки, — впрочем, тогда, в семидесятом, эта песня еще не была написана.
В коридоре, у входа с крыльца, где обычно толкутся умиленные родители, дожидаясь своих Вовочек и Танечек, на стене висел лист ватмана с надписью «Что мы сегодня кушали», а ниже приклеены бумажные карманчики: «Завтрак», «Обед», «Полдник», — и в эти карманчики были засунуты листки с названиями сегодняшних яств, чтобы папы и мамы не подумали, что их чад тут морят голодом…
Именно эти карманчики почему-то завладели вниманием финских писательниц — добрейшей и мудрой Эйлы Пеннанен и молодой красавицы Марьи-Леены Микколы, сошедшей к людям с этикетки плавленого сырка «Виола».
Может быть, у них в Финляндии, в детских садах до сих пор не додумались — во, тюхи! — до бумажных карманчиков с листками и надписями «пшенная каша», «борщ украинский», «компот из свежих яблок»…
Чуть позже природа этого интереса прояснилась сама собой, и я не забуду об этом поведать, поскольку это важно.
В урочный час в зале правления колхоза началась пресс-конференция.
Само собой разумеется, что вопросы задавали не мы, советские писатели и радяньские письменники — нам и так всё было ясно, — а зарубежные гости, финны.
— Скажите, пожалуйста, — спросил Ласси Нумми, — какой вы по счету председатель в этом колхозе?
Всеволод Викторович Кудрявцев, плотный мужчина в пиджаке с рядами боевых орденских ленточек на груди (через несколько лет к ним добавится золотая звезда Героя Социалистического Труда), сморщив лоб, стал что-то перебирать в уме, потом сказал: