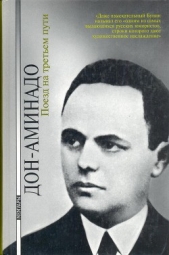Поезд на третьем пути

Поезд на третьем пути читать книгу онлайн
Книга представляет собой воспоминания литератора, чья юность прошла еще в дореволюционное время. После Октября Дон-Аминадо эмигрировал во Францию и поселился в Париже. Память о России, литературная жизнь, портреты современников — все это нашло отражение в интересной книге писателя.
Для широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шли по площадям, по улицам, останавливались, оглядывались, не оглянешься — задавят.
Как правильно говорил Лоло, предусмотрительно опираясь на жену и на палочку:
— Улицу перейти — жизнь пережить!
Долго стояли перед витринами больших магазинов, жадно смотрели на какие-то кожаные портфели, несессеры, портмонэ, на шелковые галстуки, на хрустальные флаконы, на розовые окорока у Феликса Потэна, на бриллиантовые ожерелья в зеркальных окнах Картье.
До Люксембурга, до Лувра, до Венеры Милосской еще не дошли.
А пошли насчет паспорта, насчет вида на жительство, на улицу Греннель, в посольство, в консульство, к Кандаурову, к Кугушеву, долго им рассказывали о том, что глаза наши видели, они слушали и говорили, что ушам своим не верят.
Так мы по-хорошему и объяснились.
Узнали, что В. А. Маклаков в посольстве бывает редко и вообще держится выжидательно, и в стороне.
Зато профессор Савитков, всё еще комиссар, и всё еще временного правительства, приходит ежедневно и хотя очень страдает от одышки, но интересуется решительно всем.
Из консульства — к Бурцеву на бульвар Сэн-Мишель, где помещалась редакция «Общего дела».
В редакции гам, шум, бестолковщина, кавардак со стихиями.
Главный редактор мил, близорук, беспомощен.
Добрые глаза, козлиная бородка, указательный палец желт от курева, рукава на кургузом пиджачке короткие, штаны страшные, а штиблеты такие, что наводят панику на окрестности.
Всю свою жизнь прожил на левом берегу, на Монмартре, на Монпарнассе, на улице Муфтар.
Выпил в Ротонде немало черного кофе с Лениным и Троцким, которых ненавидит тихо и упорно.
Открыл вопиющее дело Азефа, но говорить об этом не любит, отмахивается, отмалчивается.
Во время войны, в конце 14-го года, вернулся в Россию, говорят, что у него были слезы на глазах.
После октябрьской революции получил звание наемника Антанты и общественного врага номер первый, и в последнюю минуту вырвался в Париж, на Монмартр, на Монпарнас, на улицу Муфтар.
Слез уже не было.
Осталось упрямство, упорство, близорукое долбление в одну точку.
На этих трех китах и держалось «Общее дело», по-французски «La Cause Commune», на раннем эмигрантском жаргоне «Козья коммуна».
Бурцев обласкал, обнадежил, заказал «Впечатления очевидца», и дал сто франков в виде аванса.
Впечатлений набралось немало, строк еще больше, но скоро после этого возникли «Последние новости», и сотрудничество в «Общем деле» ограничилось короткой гастролью.
Н. А. Тэффи приехала на месяц раньше, чувствовала себя старой парижанкой, и в небольшом номере гостиницы, неподалеку от церкви Мадлэн, устроила первый литературный салон, смотр новоприбывшим, объединение разрозненных.
Встречи, объяснения, цветы, чай, пирожные от Фошона.
— Когда? Откуда? Какими судьбами?
— Из Финляндии? Из Румынии? Шхеры? Днестр? Из Орши? Из Варны? Из Крыма? Из Галлиполи?
Расспросам не было конца, ответам тем более.
Граф Игнатьев, бывший военный атташе, приятно картавил, грассировал, целовал дамам ручки, рассказывал про годы войны, проведенные в Париже, многозначительно намекал на то, что в самом недалеком будущем надо ожидать нового десанта союзников на Черноморском побережье, вероятно в Крыму, а может быть близ Кавказа, Мильеран горячий сторонник интервенции, всё будет отлично, через месяц-два от большевиков воспоминания не останется…
Всё это было чрезвычайно важно, интересно, и казалось настолько бесспорным и неизбежным, что Саломея Андреева, петербургская богиня, которой в течение целого десятилетия посвящались стихи всего столичного Парнаса, не в силах была удержать нахлынувшего потока чувств, надежд и обещаний, и так и кинулась нервным прыжком к военному атташе и, с неподражаемой грацией и непринужденностью светской женщины, расцеловала его в обе щеки.
Восторгу присутствующих не было границ.
Игнатьев сиял, картавил, скалил свои белые зубы, щетинил рыжеватые, безукоризненно подстриженные усы, и пил черный, душистый портвейн — за дам, за родину, за хозяйку дома, за всё высокое и прекрасное.
Больше всех шумел, толкался, зычно хохотал во всё горло Алексей Николаевич Толстой, рассказывавший о том, как он в течение двух часов подряд стоял перед витриной известного магазина Рауля на бульваре Капуцинов и мысленно выбирал себе лакированные туфли…
— Вот получу аванс от «Грядущей России» и куплю себе шесть пар, не менее! Чем я хуже Поля Валери, который переодевается по три раза в день, а туфли чуть ли не каждые полчаса меняет?! Ха-ха-ха!..
И привычным жестом откидывал назад свою знаменитую копну волос, полукругом, как у русских кучеров, подстриженных на затылке.
— А вот и Тихон, что с неба спихан, — неожиданной скороговоркой, и повернувшись в сторону, так, чтобы жертва не слышала, под общий, чуть-чуть смущенный и придушенный смех, швырнул свою черноземную шутку неунимавшийся Толстой.
В комнату уже входил Тихон Иванович Полнер, почтенный земский деятель, и зачинатель первого зарубежного книгоиздательства «Русской Земли», на которое ожидали денег от бывшего посла в Вашингтоне Бахметьева.
То ли застегнутый на все пуговицы старомодный, длиннополый сюртук Тихона Ивановича, то ли аккуратно расчесанная седоватая бородка его, и положительная, негромкая речь, — но настроение как-то сразу изменилось, стихло, и положение спас всё тот же неиссякаемый, блестящий расточитель щедрот А. А. Койранский.
Выдумал ли он его недавно, или тут же на месте и сочинил, но короткий рассказ его не только сразу поднял температуру на много градусов, вызвал всеобщий и искренний восторг, но в известной степени вошел в литературу, и остался настоящей зарубкой, пометкой, памяткой для целого поколения.
— Приехал, говорит, старый отставной генерал в Париж, стал у Луксорского обелиска на площади Согласия, внимательно поглядел вокруг, на площадь, на уходившую вверх — до самой Этуали — неповторимую перспективу Елисейских полей, вздохнул, развел руками, и сказал:
— Все это хорошо… очень даже хорошо… но Que faire? Фер-то кэ?!
Тут уже сама Тэффи, сразу, верхним чутьем учуявшая тему, сюжет, внутренним зрением разглядевшая драгоценный камушек-самоцвет, бросилась к Койранскому и, в предельном восхищении, воскликнула:
— Миленький, подарите!..
Александр Арнольдович, как электрический ток, включился немедленно и тряся всей своей темно-рыжей, четырехугольной бородкой, удивительно напоминавшей прессованный листовой табак, ответил со всей горячностью и свойственной ему великой простотой:
— Дорогая, божественная… За честь почту! И генерала берите, и сердце в придачу!..
Тэффи от радости захлопала в ладоши — будущий рассказ, который войдёт в обиход, в пословицу, в постоянный рефрэн эмигрантской жизни, уже намечался и созревал в уме, в душе, в этом темном и непостижимом мире искания и преодоления, который называют творчеством.
— Зачатие произошло на глазах публики! — с уморительной гримасой заявила Екатерина Нерсесовна Дживилегова, жена известного московского профессора, и львица большого света… с общественным уклоном.
Ртуть в термометре подымалась.
В. Н. Носович, прокурор Сената и блестящий юрист, нашел, что дружеское это чаепитие необходимо увековечить.
— Помилуйте, господа! Ведь это и есть увертюра, предисловие, первая глава зарубежного быта…
— На весь файф-о-клок меня пожалуй не хватит, но виновницу торжества быть может и удастся изобразить… — неожиданно откликнулся на предложение Носовича изящный, холодный, выхоленный, Александр Евгеньевич Яковлев, про которого говорили, что он слишком талантлив, чтобы быть гениальным.
— Надежда Александровна! — обратился он к Тэффи, — карандаши со мной, слово за вами, согласны?
— Ну, еще бы не согласна, — с неподдельным юмором ответила хозяйка дома, — благодаря вам, я, кто его знает, может быть и в Лувр попаду!..
— Рядом с Джиокондой красоваться будете! — не удержался восторженный Мустафа Чокаев, представлявший независимый Туркестан на всех файф-о-клоках.