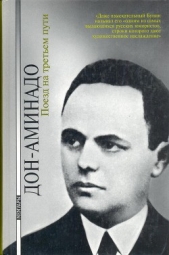Поезд на третьем пути

Поезд на третьем пути читать книгу онлайн
Книга представляет собой воспоминания литератора, чья юность прошла еще в дореволюционное время. После Октября Дон-Аминадо эмигрировал во Францию и поселился в Париже. Память о России, литературная жизнь, портреты современников — все это нашло отражение в интересной книге писателя.
Для широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Программа важнее газеты! — не уступал Новомирский.
— Какая программа?! — искренно удивился бывший присяжный поверенный, считавший, что завтраком у Тарарыкина все вопросы о программе были до конца определены и исчерпаны.
— А вот завтра увидите! — угрожающе стоял на своем прямолинейный и задетый за живое редактор.
Ночью, когда набирался номер, Крашенинникова в типографию не пустили.
На следующее утро газета вышла с напечатанным жирным шрифтом и на первой странице «Манифестом партии анархистов».
Всего содержания манифеста за давностью лет, конечно, не упомнить, но кончался он безделушкой:
— Высшая форма насилия есть власть!
— Долой насилие! Долой власть!
— Да здравствует голый человек на голой земле!
— Да здравствует анархия!!!
Через два часа после выхода газеты Каржанский срочно телефонировал:
— Скажите Сытину, чтобы сейчас же ехал в деревню. Остальные, как знают. Типография реквизирована. Газете — каюк. Больше звонить не буду. Прощайте, может быть, навсегда!..
Говорят, что Сытин, когда ему обо всём этом сообщили, только беспомощно развел руками и с неподдельной грустью сказал:
— Торговали — веселились, подсчитали — прослезились.
И, перекрестясь, уехал в деревню.
Остальные смылись с горизонта, и больше о них слышать уже не довелось.
Июль на исходе.
Жизнь бьет ключом, но больше по голове.
Утром обыск. Пополудни допрос. Ночью пуля в затылок.
В промежутках спектакли для народа в Каретном ряду, в Эрмитаже.
И в бывшем Камерном, на Тверском.
В Эрмитаже поет Шаляпин. В Камерном идет «Леда» Анатолия Каменского.
На Леде золотые туфельки и никаких предрассудков.
— Раскрепощение женщины, свободная любовь.
Швейцар Алексей дает понять, что пора переменить адрес.
— Приходили, спрашивали, интересовались.
Человек он толковый, и на ветер слов не кидает.
Выбора нет.
Путь один — Ваганьковский переулок, к комиссару по иностранным делам, Фриче.
У Фриче бородка под Ленина, ориентация крайняя, чувствительность средняя.
— Пришел я, Владимир Максимилианович, насчет паспорта…
— И ты, Брут?!
— И я, Брут.
Диалог короткий, процедура длинная.
Бумажки, справки, подчистки, документики.
От оспопрививания начиная, и до отношения к советской власти включительно.
Фриче поморщился, презрел, министерским почерком подмахнул, и печать поставил:
— Серп и молот, канун да ладан.
Вышел на улицу, оглянулся по сторонам, читаю паспорт, глазам не верю:
«Гражданин такой-то отправляется за границу…»
Чрез много лет пронзительные строки Осипа Мандельштама озарятся новым и безнадежным смыслом:
Опыта не было, было предчувствие.
Отрыв. Отказ. Пути и перекрестки.
Направо пойдешь, налево пойдешь. Сердца не переделаешь.
«Что пройдет, то станет мило. А что мило, то пройдет».
Так было, так будет.
Только возврата не будет. Всё останется позади.
Словами не скажешь. Но только то, что не сказано, и запомнится навсегда.
У каждого свое, и каждый по-своему.
А там видно будет.
Поезд уходил с Брестского вокзала. До станции Орши, где начинается Европа:
— Немецкая вотчина. Украинское гетманство.
Вдоль вагонов шныряют какие-то наймиты, синие очки, наспех наклеенные бороды.
До совершенства еще не дошли. Дойдут.
В салон-вагоне турецкий посланник со свитой; обер-лейтенант с красной лакированной сумкой через плечо, — дипломатический курьер германского посольства в Денежном переулке; и весело настроенные румынские музыканты, отпиликавшие свой репертуар в закрывшихся ресторанах.
Вокруг — необычайная, сдержанная, придавленная страхом суета.
Третий звонок.
Милые глаза, затуманенные слезой.
Опять Отрыв. И снова Отказ. От самих себя. И друг от друга.
И под стук колес, в душе, в уме — певучие, неспетые, несказанные слова:
В русской Орше последний обыск.
Всё, что было контрреволюционного, отобрали: мыла фабрики Раллэ, папиросы фабрики «Лаферм», царские сторублевки с портретом Екатерины.
Распоряжался всем огненно-рыжий комиссар в новеньком френче, в широчайших галифэ на невероятно худых, тонких ногах.
Огромный наган убедительно болтался сбоку, на желтом кожаном поясе.
Комиссарские глаза буравили, наган болтался, граждане путались в ответах, и дрожали.
По щучьему веленью, добрую половину из поезда высадили и загнали неизвестно куда.
Балканские дипломаты, румынские скрипачи, и счастливчики, избежавшие последнего заушения, благополучно перебрались по другую сторону добра и зла, где лихо гарцевал есаул Коновалец, а проверял документы пожилой прусский офицер, убийственно-вежливый.
По дороге в Киев из салон-вагона доносились звуки вальса, скрипки и цимбалы сопровождали турецкое превосходительство, уставшее от шифрованных телеграмм и сложных международных отношений.
…Киев нельзя было узнать.
Со времен половцев и печенегов не запомнит древний город такого набега, нашествия, многолюдства.
На улицах толпы народу. В кофейнях, на террасах не протол питься.
Изголодавшиеся москвичи и отощавшие петербуржцы набросились на белый хлеб и пожирают его, стоя и сидя.
Все друг с другом раскланиваются и, попивая кофеёк, рассказывают, как они вырвались, как бежали, и что у них отняли и забрали.
Настроение идиотски-праздничное.
На клумбах в Купеческом саду расцветают августовские розы.
Золотая, южная осень ласкает, нежит, зачаровывает.
На площади перед городской Думой — медь, трубы, литавры, — немецкий духовой оркестр играет военные марши и элегии Мендельсона.
Катит по Крещатику черный лакированный экипаж, запряженный парой белых коней, окруженный кольцом скороспелых гайдуков и отрядом сорокалетнего ландштурма.
В экипаже ясновельможный гетман в полковничьем мундире, в белой бараньей шапке с переливающимся на солнце эгретом.
Постановка во вкусе берлинской оперы. Акт первый.
Второго не будет.
В подвале «Метрополя» «Подвал Кривого Джимми», кабарэ Агнивцева с осколками Кривого Зеркала.
В городском театре тот же Валиев, и вся Летучая Мышь в полном сборе.
Газет тьма тьмущая.
«Киевская мысль». «Киевские отклики». «Киевлянин» профессора Пихно.
Кроме того, газета «Утро», и газета «Вечер».
Затея петербургская, деньги Протофиса.
Но наибольшим успехом, и на галерке и в бэльэтаже, пользуется еженедельный листок Василевского (Не-Буквы) «Чортова перечница».
Листок официально — юмористический, не официально — центр коллективного помешательства.
Всё неожиданно, хлёстко, нахально и бесцеремонно.
Имен нет, одни псевдонимы, и то выдуманные в один миг, тут же на месте.
В заголовке сказано:
«Чортова перечница, орган старых шестидесятников, с номерами для приезжающих».
Шельмуют всех и каждого, начиная с Вудро Вильсона и кончая полковником Скоропадским.
Игорь Кистяковский, московская знаменитость, а теперь гетманский министр внутренних дел, еженедельно вызывает Василевского для объяснений и внушений.
Василевский нисколько не смущается и говорит: — Вы, Игорь Александрович, дошли до министерства, мы до «Чортовой перечницы». Разница только в том, что у нас успех, а у вас никакого…
Кистяковский куксится, но всё это не надолго.
Скоро придет Петлюра.
«Время изменится, всё переменится».