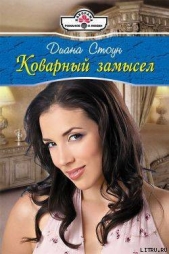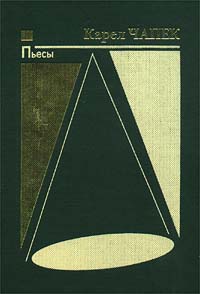Великая мелодия (сборник)

Великая мелодия (сборник) читать книгу онлайн
Новая книга московского прозаика Михаила Колесникова — это воспоминания о том, как обратился он к теме гражданской войны, как познакомился с людьми, ставшими прототипами будущих книг о Фрунзе, Фурманове, Сухэ-Баторе. «Последние грозы» приоткрывают малоизвестные страницы партизанской войны в Крыму в годы становления Советской власти, рассказывают, как удалось вернуть на родину корпус, входивший в белую армию. Теме творчества посвящены произведения «Великая мелодия» и «Реквием».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда по гранитной лестнице мы спустились к подножию кургана, генерал-лейтенант Костырин первым нарушил молчание:
— Мне, если хотите знать, посчастливилось быть у самых истоков… — сказал он немецкому скульптору профессору Фрицу Кремеру. — В качестве военного консультанта. Так пожелал сам скульптор — пригласил в консультанты, а начальство не стало возражать. Мы ведь знали друг друга с сорок первого. В самом начале войны скульптор добровольно ушел на фронт, оборонял Москву. Отличался бесстрашием: ему, видите ли, требовалось запечатлеть сущность героического характера в «событиях, монументальных по своему существу». У каждого художника, наверное, есть свой пункт. Так вот у моего друга-скульптора таким пунктом был «героический характер». Он изучал не только лицо того командира, которого лепил, но и боевые операции, проведенные им. Себя называл «надежным художником». Ну конечно же его тяжело контузило. На Волховском фронте. С тех пор появился нервный тик. Списали вчистую.
Кремер тяжело вздохнул.
— Я не знал всего этого, — сказал он. — Мы встречались. Но то были мимолетные встречи. Официальные, что ли. Мне хотелось ближе сойтись с ним… Мы ведь с ним — «сверстники», он года на два моложе… И вот он умер… Трагическая неожиданность. Подобные личности всегда умирают неожиданно… Говорят, он родился в Днепропетровске, жил на Дону… Чисто человеческая досада: не дожить нескольких месяцев до тридцатой годовщины разгрома гитлеровцев!.. Слишком много упущенных возможностей.
У его рта обозначилась складка, морщины на лбу стали резче. Глаза казались потухшими: главные встречи мы откладывали на неопределенное будущее — успеется! А будущее может не состояться… Вот оно и не состоялось…
— Мне хочется увидеть его памятник — ансамбль на Мамаевом кургане… — произнес негромко Кремер.
Помню, когда я впервые увидел Кремера, то, еще не зная, кто он, подумал: наверное, представитель портовых рабочих или горняков…
Этакий приземистый крепыш. Энергичное лицо, густые волосы зачесаны назад, залысинки, острый подбородок и особое выражение рта, с чуть выпяченной нижней губой, присущее людям тяжелого физического труда. Ему было под семьдесят, но глаза глядели остро, я бы даже сказал, пронзительно и словно бы настороженно.
Как выяснилось, он в самом деле вырос в среде рурских горняков. Ему не было и семи, когда остался круглым сиротой. Горнорабочий взял в свою семью. Кремер закончил гимназию в Эссене. В двадцать восьмом вступил в компартию. Учился у Герстеля в Высшей школе изобразительного и прикладного искусства в Берлине. Потом начались поездки: Париж, Лондон, Рим. Одним из первых его бронзовых рельефов следует считать «Гестапо». Рельеф выполнен в тридцать шестом.
Кремер не раз бывал у нас в Советском Союзе, в Москве, Ленинграде и других городах.
Сегодня утром в его мастерской я видел скульптуры, от одного вида которых стыла кровь: облысевших матерей с детьми-дистрофиками и мертвыми детьми из концлагеря Равенсбрюк. «Мать солдата», «Мать рабочего»… — целая галерея скорбящих матерей. «О Германия, измученная мать» — это все та же высохшая от голода и страданий мать, брошенная за колючую проволоку Маутхаузена, претерпевшая все надругательства. От ее лица, с глубокими глазницами и впалыми щеками, трудно оторвать взгляд. Здесь предельно выражена трагедия целого народа.
Когда мы вошли в мастерскую, Кремер трудился над большой фигурой «Распятого». Но то был не сын божий, а распятый рабочий, пролетарий, полный собственного достоинства и ненависти к угнетателям боец.
И каждой статуе предшествовали десятки рисунков. Имелись и отдельные рисунки, наброски сюжетов.
Есть у него и свой «Сон разума» — графическая работа. На спящего устрашающе надвигаются танки, у ног наступают вооруженные до зубов гномики в эсэсовской форме, ночная птица распростерла крылья. Есть и другой рисунок: «Сон» — «распятый» сошел с креста и протягивает руки к знамени с красной звездой и портретом Маркса.
Как зачарованный смотрел я на «Голову умирающего солдата» из бронзы. Скульптура, так же как и фигуры многих «скорбящих женщин», была создана в тридцать пятом — тридцать седьмом годах. «Голова умирающего солдата» — автопортрет Фрица Кремера. Худое тонкое лицо, торчащий нос, глаза, прикрытые веками, и печальный рот, сведенный предсмертной судорогой… Он видел себя задавленным, умирающим бессмысленной смертью. И это вовсе не Кремер, а целое молодое поколение его сверстников, гибнущее под пятой фашизма. «Голова», как и «скорбящие женщины», — протест художника. Изобразить себя умирающим или мертвым — подобная фантазия еще ни одному скульптору не приходила на ум: это ведь крайняя степень отчаяния…
Кремер шел по следам неслыханных преступлений фашизма, навеки запечатлел их, чтоб никогда не наступал сон разума. Такое искусство требует мужества.
Фриц Кремер… Передо мной находился выдающийся, а возможно, гениальный немецкий ваятель, известный всему миру своей монументальной скульптурой, установленной в Бухенвальде. Говорили, эта бронзовая скульптурная группа перед пятидесятиметровой колокольней, символизирующая интернациональную солидарность узников лагеря, производит потрясающее впечатление.
Я рвался в Веймар, на гору Эттерсберг, чтоб увидеть ее собственными глазами.
Памятники Кремера в Маутхаузене, в Равенсбрюке, берлинский памятник борцам Интербригад в Испании — устремленный вперед воин с мечом в руке — и в каждом пульсирует кусочек окровавленного сердца.
Из разговора я понял, что ему хорошо знакомы работы Анны Голубкиной, Мухиной, Матвеева, Шадра, Меркурова, Пинчука, Микенаса, он знал скульптуру Матери-Родины Веры Исаевой на Пискаревском кладбище.
Он сказал, что по примеру нашего скульптора, подарившего от имени своей страны Организации Объединенных Наций известную группу «Перекуем мечи на орала», собирается осенью передать этой международной организации свою бронзовую статую «Восхождение» — обнаженная до пояса мужская фигура, преодолевшая, судя по всему, крутой подъем. Человек заглядывает в бездны, которые остались позади, под ногами…
Собственно, мое повествование — о двух мощных, я бы даже сказал, героических характерах, о скульпторах — советском и немецком. В мою биографию они никак не вписываются, мы встретились, по сути, благодаря случаю. Но они заинтересовали меня крайне: от них как бы исходила величаво торжественная и траурная музыка войны.
Не исключено, об этих двух скульпторах будут написаны интересные книги: великое деяние не проходит незамеченным в потоке времени. А может быть, именно мне предназначено написать о них: ведь я все же общался с ними.
Эффект или феномен духовного соприкосновения… Я был автором нескольких романизированных биографий выдающихся людей и знал цену духовному соприкосновению. Писатель беспрестанно и почти непроизвольно занят эстетизацией жизненных явлений, событий, характеров и биографий людей, их отношений, стремясь хотя бы для себя упорядочить хаос, придать ему видимость закономерного процесса. Вот в этом странном, почти иллюзорном мире он и пребывает изо дня в день. Ну а когда выпадает счастье общаться с крупной личностью или хотя бы с теми, кто хорошо знал ее, то невольно появляется искус написать книгу о замечательном человеке.
Но признаться, я скоро понял: такое явление, как скульптор, художник вообще, требует особого постижения — создать полнокровную книгу о скульпторах не сумею. Решил пойти по другому пути: не мудрствуя лукаво, зафиксировать на бумаге их суждения и рассуждения, подчас полные «болтливой мудрости», но все-таки — мудрости, выношенных взглядов на искусство и на мир в целом. Я прямо-таки обязан запечатлеть своеобразный «поток сознания» выдающихся мастеров. Возможно, именно так поступал в свое время Одоевский, когда писал свой «роман идей» — «Русские ночи». Он утверждал, что главным героем романа может стать мысль, естественно развивающаяся в бесчисленных разнообразных лицах. Белинский сказал об одной из повестей Одоевского: «Это скорее биография таланта, чем биография человека». Вот за это я и зацепился, не тревожась о том, что рассказ мой получится несколько риторичным, лишенным сюжетного костяка.



![Жемчужное зерно [=Кристалл]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)