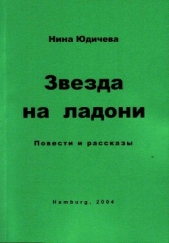Случай Эренбурга

Случай Эренбурга читать книгу онлайн
Илья Эренбург, одна из самых противоречивых фигур в советской литературе и общественной жизни, предстает в этой книге не только прекрасным прозаиком, тонким поэтом и блистательным публицистом, но прежде всего человеком, переживающим драму, поставившим свой талант на службу сталинскому режиму и делающим многое этому режиму вопреки. Размышления автора о жизни и творчестве Эренбурга перемежаются воспоминаниями о встречах и доверительных беседах с ним.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наивным ребенком Илья Григорьевич, конечно, не был. Но когда в декабре 1937 года он приехал из Мадрида в Москву, он попал в совершенно новый, незнакомый и непонятный ему мир. И первым гидом, первым его провожатым в этом поразившем его мире стала Ирина. Самые элементарные вещи она объясняла, втолковывала ему как маленькому.
В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило: «Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут наказаны».
«Что это значит?» — спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила: «Я так рада, что вы приехали!..»
Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила: «Ты что, ничего не знаешь?..»
Полночи она и Лапин рассказывали нам о событиях: лавина имен, и за каждое одно слово — «взяли»…
Я не мог успокоиться, при каждом имени спрашивал: «Но его-то почему?..»
Он еще пытался понять: за что? почему? А Ирина уже знала, что берут ни за что и «нипочему».
В 1967 году, когда Эренбург умер, Ирине для утверждения ее в правах наследства понадобилась метрика. Никакой метрики у нее не было, и она написала в Ниццу, где должны были сохраниться какие-то документы.
Кое-что действительно сохранилось: из Ниццы пришла справка, подтверждающая, что в таком-то году ее мать, такая-то, действительно родила девочку Ирину. Но имя отца там указано не было. Повертев ненужную справку в руках, женщина-нотариус сказала, что бог с ней, с метрикой: «Вашей метрикой будут мемуары вашего отца».
В эренбурговских мемуарах имя Ирины и в самом деле упоминается многократно. И если внимательно проглядеть все эти упоминания, можно установить не только факт их прямого родства (что только и было нужно нотариусу), но и характер их взаимоотношений.
Эренбург, вынужденный по обстоятельствам своей жизни долго жить за границей, действительно не знал — не мог знать! — многого. И Ирина нередко бывала его глазами, его ушами: поневоле оторванный от советской реальности, свое знание о ней он черпал из ее свидетельств, ее жизненных впечатлений.
По поручению «Красной звезды» Ирина в марте поехала в Одессу — оттуда отправляли англичан, французов, бельгийцев, освобожденных Красной Армией. Тогда же прибыл из Марселя транспорт с нашими военнопленными, среди них были убежавшие из плена, боровшиеся в отрядах французских партизан. Ирина рассказывала, что их встретили как преступников, изолировали, говорят, будут отправлять в лагеря.
Отчасти именно эта роль, которую Ирина играла в его жизни, определила характер их отношений. Не только ее отношения к нему, но и его отношения к ней.
Но было тут и другое.
Ему и раньше, когда она была совсем маленькой девочкой, было свойственно вот это уважительное отношение к ней, отношение «на равных».
Когда Ирине было семь лет, мать крестила ее. Не то чтобы она была так уж сильно верующей, но — на всякий случай.
Эренбург в храм не вошел, ждал девочку у выхода из церкви. А когда обряд был совершен, повел ее в кондитерскую и сказал:
— Можешь съесть столько пирожных, сколько захочешь.
Он вел себя так, словно дочь подвергли какой-то неприятной медицинской процедуре. Поскольку это все-таки была не какая-нибудь там прививка или укол и больно ей не было (всего-то только помазали лоб водичкой и подарили крестик), Ирина так и не поняла, чем было вызвано это странное поведение отца. Почему не пошел вместе со всеми в церковь? Почему ждал у выхода? Почему решил угостить ее пирожными?
Однажды она задала ему все эти вопросы.
Он ответил:
— Я не люблю, когда подавляют личность.
Это уважительное отношение отца к ее человеческой личности Ирина ощущала с детства.
Мне было 12 лет, — пишет она в своих воспоминаниях, — когда я снова познакомилась с отцом. Я не знала, что он поэт и писатель, успевший к тому времени выпустить сделавший его знаменитым роман «Хулио Хуренито». Он мне нравился, потому что относился ко мне с уважением и считался с моим мнением. Я его полюбила.
Вот, стало быть, как рано он начал считаться с ее мнением.
Конечно, она любила отца. И, конечно, относилась к нему с уважением. И, конечно, ей было обидно, если в ее присутствии кто-нибудь говорил о нем в неуважительном или даже оскорбительном тоне. Но обсуждать его слабости и ошибки и даже осуждать его за те — не всегда пристойные — поручения, которые ему приходилось выполнять, при ней можно было свободно. И даже классическую фразу Бабеля, нередко вспоминавшуюся кем-нибудь из нас в разговорах на эту тему («В номерах служить, подол заворотить»), она выслушивала — без удовольствия, конечно, но, во всяком случае, с пониманием, не возражая.
Все это я рассказываю к тому, что говорить с Ириной об ее отце я мог с полной откровенностью. И говоря с ней о нем, мог не сомневаться, что она тоже будет со мной откровенна — скажет все, что знает, ничего не утаив.
Так оно и случилось, когда я однажды спросил ее, что ей известно про то письмо, которое, как рассказывают, все именитые евреи подписали и только он один не подписал.
Было это — или не было? И если было, то — как?
Что она помнит об этом?
Она помнила только, что ему позвонили и попросили приехать в редакцию «Правды». И что вернулся он оттуда совершенно мертвый. Не сказав никому ни слова, заперся у себя в кабинете и — пил. Таким пьяным, сказала она, я никогда его не видела — ни раньше, ни потом.
А наутро, уже на трезвую голову, он написал Сталину.
— И что же он ему написал? — осторожно спросил я.
Этого она не знала.
На этом и кончился тогдашний наш разговор.
Этот рассказ Ирины — особенно то, что, отказавшись поставить свою подпись под письмом именитых евреев в редакцию «Правды», И.Г. «ушел в запой» (что, по моим представлениям, было ему совсем не свойственно), — произвел на меня такое сильное впечатление, что совсем заслонил все, что я слышал об этой истории раньше, и даже вытеснил многое из того, что я узнал о ней потом.
Как оказалось, в действительности все было совсем не так, как это представилось мне под впечатлением Ирининого рассказа.
Вообще-то я мог бы сообразить это давным-давно, поскольку мой друг Борис Биргер в свое время довольно подробно записал рассказ Ильи Григорьевича о том, как все это происходило. И этот записанный им рассказ я, конечно, читал. (Сейчас уже не помню, до или после того моего разговора с Ириной, но это не так уж важно, поскольку, как я уже сказал, рассказ Ирины надолго вытеснил из моего сознания не только все, что я знал об этом раньше, но даже и то, что узнал потом.)
Биргер познакомился с Ильей Григорьевичем в 1962-м, то есть позже, чем я. Но у него с Ильей Григорьевичем сразу завязались более тесные, можно даже сказать, дружеские отношения. Наверное, так вышло потому, что к художникам Эренбург питал особую слабость. Работы Бориса пришлись Илье Григорьевичу по душе. Одну из них он даже у него купил, и этот приобретенный им когда-то ранний биргеровский натюрморт до сих пор занимает свое место в его «коллекции» — по соседству с Фальком, Тышлером, Пикассо и Матиссом.
Назвав собрание эренбурговских картин «коллекцией», я не случайно взял это слово в кавычки. Сделал я это не думая, автоматически, хотя и прекрасно понимал, почему это делаю. А сейчас вдруг ясно вспомнил один рассказ Биргера как раз вот на эту тему.
Однажды Борис повез Эренбурга к своему другу Владимиру Вейсбергу — наверное, самому замечательному российскому художнику этого поколения. На обратном пути он стал уговаривать Илью Григорьевича, чтобы тот купил какую-нибудь Володину картину. И между прочим сказал, что картина такого художника, как Вейсберг, была бы, пожалуй, наилучшим завершением его коллекции. Нечаянно вырвавшееся у Бориса слово «коллекция» привело Эренбурга в ярость. С не свойственной ему обычно резкостью — и даже с обидой — он сказал, что коллекционером никогда не был: все его картины — это подарки близких друзей. Единственное исключение — автопортрет Шагала, который купила Любовь Михайловна. Купила, кстати сказать, чтобы спасти картину от гибели: одна женщина, муж которой был арестован, а сама она со дня на день тоже ждала ареста, срочно распродавала все свои вещи, среди которых был и этот бесценный шагаловский автопортрет.