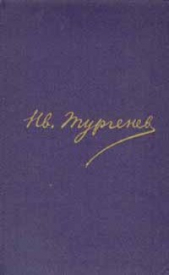Замогильные записки
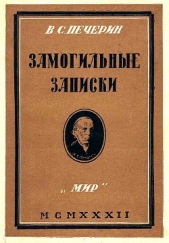
Замогильные записки читать книгу онлайн
Печерин Владимир Сергеевич — русский иезуит, эллинист; родился в 1808 г. Окончил курс в Петербургском университете, был командирован за границу для подготовки к профессорскому званию. В 1836 г. занял кафедру греческой словесности в Московском университете.
Тогдашнее положение вещей угнетало Печерина; он решился уехать из России. Для этого нужны были деньги. Печерин стал давать уроки, свел свои издержки на самое необходимое, избегал товарищеских собраний и, наконец, уехал, уведомив попечителя письменно, что не воротится в Россию. За границей Печерин некоторое время был домашним учителем, а потом сделался монахом иезуитского ордена, и очень ревностным.
В издание вошли мемуары Владимира Сергеевича Печерина «Замогильные записки», написанные в 60–70-е гг. XIX столетия. .
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут мера моего терпения переполнилась, да и сам настоятель был совершенно со мною согласен. «Во что бы то ни стало, надобно сбыть с рук этого брата», сказали мы друг другу (Il faut nous debarasser de ce frère-là). Ведь это срам и позор особенно здесь в Англии, где любят все изящное! Сказано-сделано, и с позволения высшего начальства мы выпроводили нашего фламандца по живу по здорову, и он отправился обрабатывать картофель где-то в глуши в уединенной деревне, где его садоводство не могло оскорбить эстетического чувства людей высшего класса. А нам возвратили нашего милого расторопного Фелициана: под его руководством и с помощью садовника наш палисадник превратился в настоящий цветник (parterre) с прекрасными дорожками и роскошными цветами. Тут мы обыкновенно прогуливались два раза в день во время рекреации (récréation), т. е. час после обеда и час после ужина, когда позволено было разговаривать, а в остальное время мы должны были хранить молчание.
Нас было трое: два священника и один брат-прислужник. И для двух священников немного было дела: число католиков не доходило до ста. Но для лучшего соблюдения монастырского устава и для благолепия священнослужения нашли нужным присоединить к нам еще одного патера, и прислали какого-то полоумного француза — теперь даже имени его не помню. Он не то что был сумасшедший, а так чего-то недоставало, и с ним случались странные припадки. Кажись, английский климат имел очень невыгодное на него влияние. Мы сидели однажды с ним за столом: брат Фелициан и я. Вдруг гляжу: лицо его совершенно изменилось: он посмотрел на меня искоса диким взглядом сумасшедшего и крепко схватился за нож: брат Фелициан остановил его руку. Я немножко струхнул, но на этот раз этим дело и кончилось. Но скоро однажды пришел кризис. Однажды после обеда мы совершали краткую молитву перед алтарем в часовне. Вдруг что-то обрушилось на меня: мне казалось, что огромная лампада, висевшая перед алтарем, упала мне на голову, а вместо того это была — огромная пощечина, данная мне сумасшедшим патером со всего размаху с словами: «pourquoi me persécutez-vous?» [321] — так что я упал почти без чувств… После этого нечего было мешкать: настоятель решился тотчас с первым же дилижансом отправить этого юродивого восвояси, в более сродный ему климат Бельгии. Но накануне его отъезда я нашел нужным запереть свою комнату изнутри — бог весть, что могло случиться ночью. Но по утру он опять был в здравом уме и вообще перед чужими он как-то сдерживал себя и не показывал никаких дурных признаков.
На место сумасшедшего к нам прислали человека совсем другого разряда. К нам приехал патер Лукс, голландец, молодой человек, живописец, музыкант, певец, все что угодно, ты может быть мельком его видел в Виттеме, но брат Федор Печерин коротко с ним познакомился и старался всеми силами разведать — какие романтические причины побудили такого красавца пойти в монахи, но ничего не выведал, потому что ларчик просто отпирался. По просьбе брата, Лукс написал с меня портрет масляными красками — вовсе непохожий: он сделал меня красавцем и по крайней мере десятью годами моложе. А потом брат взял этот портрет с собою в Петербург и там отдал какому-то модному артисту поправить и окончить, retoucher et donner le dernier coup de pinceau [322], а тот уже действительно так его доканал, что вышло чорт знает что такое, до такой степени, что мать моя, увидев портрет, заплакала от досады. «Я ожидала увидеть монаха, а вижу ребенка». Это доказывает, что у простосердечной матери моей был истинный неподдельный вкус.
А напротив — в современной католической церкви везде господствует — мишурный вкус. Это особенно поражает в церквах господствующей секты, т. е. иезуитов: везде видно отсутствие простоты: все как-то натянуто, неестественно, вычурно, везде проглядывает какое-то мелкое тщеславие. Живопись в возобновленной церкви san Paolo fuori le mura [323] — ниже всякой критики. Был у них в Риме знаменитый живописец Овербек [324]; но и тот же ведь был немец и был вначале протестантом, а после перешел в католичество. Первое его произведение находится в лютеранской церкви в Любеке. В Риме все носит отпечаток крайнего изнеможения, дряхлости, рыхлости, все как будто разбито параличем; но все ж таки они бодрятся и хотят выставить себя молодцами. Основатель конгрегации редемптористов св. Альфонс де Лигвори доселе обыкновенно представлялся дряхлым стариком небольшого роста с упавшею на грудь головою; но теперь как редемптористы пошли в гору, им стало стыдно иметь такого невзрачного патрона. Вот например св. Игнатий у иезуитов: посмотрите, какой молодец! лихой офицер да и только! А у нас-де такой плюгавый старикашка. Нет! этому надобно помочь, для чести ордена! итак они принялись за дело, выпрямили св. Альфонса, прибавили ему несколько вершков роста, разбелили и разрумянили его и вышел — отличный кавалергардский полковник! Это напоминает мне польскую графиню, виденную мною в Хмельнике в 1823 г.: ей было лет за 70, но она всегда румянилась самою нежно-розовою краской и с полуоткрытою грудью была одета точно как. девушка лет шестнадцати — вот католическая церковь в ее настоящем виде.
Слыхал ли ты когда-нибудь о русском художнике Габерцеттеле? [325] В 1851 г. он выставлял в Лондоне огромную картину: Проповедь Иоанна Крестителя в пустыне. Ее не одобрили в Петербурге. Государь Николай Павлович, взглянувши на нее, сказал: «Вот опять эта западная живопись» и отвернулся прочь. И Николай Павлович был совершенно прав. Не говоря уже о других подробностях, довольно было взглянуть на главную фигуру Иоанна Крестителя: вместо сурового вдохновения пророка, тут выражалось какое-то приторно-сладкое изнеможение полупьяного гандена [326]. В Лондоне тоже она не имела ни малейшего успеха. Этот же самый Габерцеттель непременно хотел навязать редемптористам им же писанную небольшую икону спасителя. Настоятель отец де-Гельд старался отделаться от него всеми способами, извиняясь тем, что теперь в Англии совсем другой вкус, что любят все старое, готическое и пр.; а в самом деле картина была невыносимо дурна. Лицо спасителя в терновом венке было просто портрет какого-то итальянского щеголя с завитыми кудрями и любострастными глазами. Одно доброе дело сделал Габерцеттель: он привел меня с братом к хорошему дагерротиписту, а тот снял с меня верный портрет, доставивший истинное удовольствие моей незабвенной матушке. — В музыке тот же ложный мишурный вкус. В папской капелле в Ватикане поют еще кое-как сносно; но во всех других местах везде оперная музыка: им недостает только пригласить Штрауса [327] проиграть вальс во время обедни.
Итак патер Лукс (Lux) приехал к нам с истинно-католическим вкусом в живописи и в музыке, с самым высоким понятием о самом себе, с гордою надеждою, что он обратит всех протестантов в истинную веру своею кистью и своим голосом. По примеру всех великих гениев, он начал все преобразовывать, все переделывать по-своему: расписал, размалевал всю нашу крошечную церковь сверху до низу с весьма сомнительным вкусом и надобно признаться что живопись его была довольно плоха. Случилось, что сардинский военный корабль остановился вФальмутской пристани; священник (aumonier de la flotte) пришел нас навестить. Мы показали ему свою церковь как какое диво. Взглянув на живопись, он с улыбкою сказал: «Non era un Raffaele questo pittore» [328]. А когда ему объяснили, что этот non Raffaele именно стоявший возле него патер Лукс, то он расхохотался и размахнувшись руками сказал: «Eh bien! je vous en félicite!» [329]