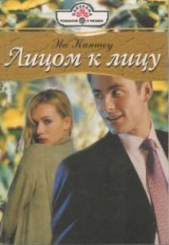Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина
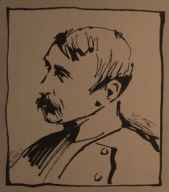
Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина читать книгу онлайн
Вместе с навсегда запечатлевающейся в душе онегинской строфой приходит к нам «меланхолический Якушкин», и «цареубийственный кинжал» романтически неожиданно блестит в его руке. Учебник охлаждает взволнованное воображение. Оказывается, этот представитель декабризма не отличался политической лихостью. Автор этой книги считает, что несоответствие заключено тут не в герое, а в нашем представлении о том, каким ему надлежало быть. Как образовалось такое несоответствие? Какие общественные процессы выразились в игре мнений о Якушкине? Ответом на эти вопросы писатель озабочен не менее, нежели судьбой и внутренним миром героя. Перу Л. А. Лебедева принадлежит более десятка книг, посвященных таким историческим лицам, как Чаадаев, Грибоедов, Чернышевский, Грамши, Писарев, Луначарский, и несколько сборников литературно-критических статей. Если читатель в свое время обратил внимание на некоторые из означенных работ, он, можно думать, не захочет пройти мимо этой книги об одном из самых внутренне близких нам сейчас тружеников свободы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Перед моим отъездом из России, на прощальном ужине, я предложил прежде всех тостов выпить за старшего из нас — за Чаадаева. Чаадаев был тронут, но тотчас принял свой холодный вид, выпил бокал, сел и вдруг опять встал, подошел ко мне, обнял меня, пожелал нам счастливого пути и с словами «простите меня, мне пора» вышел вон. Я его не удерживал и проводил до дверей; стройная, прямая в старости фигура Чаадаева исчезла в дверях середь приутихшего пира и так осталась в моей памяти; я его больше не видел.
Жаль, что два последних поколения не знали таких предшественников. Имея много ненавидеть и презирать, им почти нечего было любить и уважать…
Прошло пятнадцать лет после того, как Чаадаев исчез в дверях. Я пережил целый том истории да свою целую жизнь, и вдруг в 1861 году возобновилась одна из встреч 1831 года, и я опять чувствовал себя молодым студентом.
Старик, величавый старик, лет восьмидесяти, с длинной серебряной бородой и белыми волосами, падавшими до плеч, рассказывал мне о тех временах, о своих, о Пестеле, о казематах, о каторге, куда он пошел молодым, блестящим и откуда только что воротился седой, старый, еще более блестящий, но уже иным светом…
…Я слушал, слушал его, и когда он кончил, хотел у него просить напутственного благословения в жизнь, забывая, что она уже прошла… Между виселицами… этими верстовыми столбами императорского тракта, прошли, сменяя друг друга в холодных, темных сумерках, три шеренги… скоро стушуются их очерки и пропадут в дальней синеве. Пограничные споры двух поколений, поддерживающие их память, надоедят — и им предоставят амнистию забвения. Из-за них всплывут тени старцев-хранителей и через кладбище сыновей своих призовут внуков на дело и укажут им путь…»
«Величавый старик», который возник в жизни Герцена в 1861 году, словно возобновив собой прерванную расставанием старую, прежнюю встречу Герцена с Чаадаевым, — декабрист С. Г. Волконский. Для краткости одна лишь только справка из комментариев к современному изданию сочинений Герцена. «Арестованный в январе 1826 г., он был приговорен к смертной казни, замененной 20-летней каторгой; впоследствии срок каторги был сокращен до 15 лет. После отбытия каторги Волконский оставался на поселении в Сибири, откуда вернулся после амнистии 1856 г. В 1859 и 1860–1861 гг. выезжал за границу для лечения. Герцен встречался с ним в Париже в конце июня — начале июля 1861 г.» Эту справку с необходимыми разъяснениями можно было бы поместить и в комментарии к какому-либо изданию произведений Льва Толстого, в которое были бы включены его «Декабристы», о которых ранее уже говорилось чуть-чуть в этой книге… Но это уже иной сюжет, связанный с выяснением прототипических истоков образа главного героя неоконченного произведения Толстого.
Согласно семейному преданию, именно Волконскому поручалось при определенных обстоятельствах принять Пушкина в тайное общество.
В пору, когда Волконский встретился с Герценом, Якушкина уже не было на свете. В ссылке Якушкин многократно встречался с Волконским. Для Герцена, как и для Толстого, Волконский представал какbм-то прекрасным воплощением всей когорты «святых старцев», как неоднократно именовал Герцен «декабристов после декабря».
Чувствуется здесь у Герцена и горечь, и острое беспокойство, и прямая боль по поводу того, что «дети» не слишком-то жалуют, не чтят седины «отцов» — «старцев-хранителей», что уже есть, уже возник и растет, разгорается, принимая удручающие Герцена формы, почти стыдные формы, тот исторический «спор» между «отцами и детьми», в котором «дети» всегда для себя, в своих глазах правы хотя бы одним уже тем, что дальше от могилы, чем «отцы», у которых все уже, кажется, в прошлом. И «наивные заговоры», и «сентиментальная» вера в Александра, и еще более «сентиментальное» разочарование в Александре, и какой-то непонятный во всей юродивости неведомого кодекса чести ритуал «стояния» на Сенатской, и даже то, что все-таки могли оценить «дети», что вообще грозило стать высшим знаком гражданского отличия и порыва, — сами виселицы. Даже они были у «отцов» в прошлом, а не в будущем, как у многих из «детей», которых виселицы уже начинали странно манить, страшно влечь — как некий «предел» и «край», как некий высший и окончательный критерий истинной меры гражданского мужества и нравственной чистоты. «Приглашение на казнь» — это внутреннее состояние «дети» начинали испытывать как все более для себя естественное и единственно достойное. А всякие там «умеренные революционеры» Якушкины, всякие Пущины со своими лицеями, всякие там князья Оболенские и Волконские и т. д. и т. п. — о них уже и говорить-то было странно и почти неудобно. И притом еще не были даже известны особенности поведения многих деятелей декабризма, особенно вождей декабристов на следствии! Но «дети» уже многое начинали «прозревать» в прошлом, ведя счет от своих виселиц в своем будущем.
Герцен не боялся, а не хотел никаких виселиц, не хотел никакой крови. Он страстно желал, чтобы если уж не «сыновья», так «внуки» вновь обратились бы к тем «поверстным столбам», тем исходным для него вехам всех последующих исторических и личных судеб, которые светлыми нетленными призраками стояли в его глазах у «императорского тракта» России, помеченного своими собственными страшными «дорожными указателями», зовущими на казнь. Никакого «третьего пути» Герцен не мыслил и не выдумывал. Он чувствовал себя душеприказчиком декабризма и имел на то все основания… Сейчас уже неразумно и исторически безответственно было бы полагать, что позиция Герцена в этом случае, в «споре между отцами и детьми», определялась лишь его иллюзиями. В этой позиции были для той поры свои слабости, она была для той поры небезупречна — все так. Но в известной ретроспекции, ведя отсчет уже даже не от виселиц, которые ныне «смотрятся» как нечто архаичное и почти «наивное», а от кое-чего более «совершенного» в том же роде, нельзя не понять, наконец, что, в сущности, во все разгоравшемся споре «отцов и детей», в этой многозначительной распре речь для Герцена шла об опасностях самой мысли об отречении «из принципа» от поисков путей ненасильственного преобразования действительности, о революционном реформаторстве. Ведь вообще-то именно эта проблема и была главным стержнем, главной болевой точкой всех духовных исканий и метаний, всех страданий Герцена. Тем, быть может, ныне для нас он и велик.
Никакая это не «модернизация» и не «осовременивание» Герцена — просто на прошлое надо смотреть сегодняшним взглядом, да иначе и невозможно.
В свое время, на своем историческом этапе старался разобраться в прошлом, еще, казалось бы, совсем недавнем для него прошлом, и Герцен. Он прекрасно чувствовал, к чему могут идти и идут «дети», и знал, из какого отчаяния идут они по страшному своему пути — пути крови. Позади у «детей» было только поражение декабристов-отцов на Сенатской да Николай. «Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, — писал Герцен, — не замещалось. Мысль томилась, работала — но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно — да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтоб спокойно сказать свое». Это свое прозвучало уверенно и страшно: «Оставьте всякую надежду». Это не было восклицание, не был крик — это была констатация исторического факта.
Герцен говорит нечто очень важное для понимания его взгляда на тот промежуток российской истории, в который столько всего завязалось для будущего и столько узлов было разрублено, казалось, навсегда.
«После «Горе от ума», — замечает Герцен, — не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними — десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай».
С Грибоедовым, как помним, Якушкин был дружен с детства. Юный Якушкин считался, согласно одной из тогдашних версий, прототипом Чацкого. Если так, то Герцен даже и не сделал никакого литературного умозаключения, сказав, что Чацкий — будущий декабрист и всей своей жизнью шел прямехонько в Сибирь.