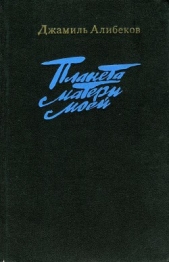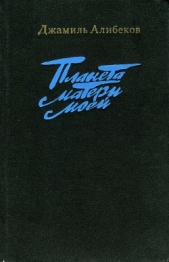Такая долгая полярная ночь

Такая долгая полярная ночь читать книгу онлайн
В 1940 году автор этих воспоминаний, будучи молодым солдатом срочной службы, был осужден по 58 статье. На склоне лет он делится своими воспоминаниями о пережитом в сталинских лагерях: лагерный быт, взаимоотношения и люди встреченные им за долгие годы неволи.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я даже зверством это назвать не могу. Зверь убивает свою жертву, чтобы самому выжить, он нуждается в пище, а человек, убивает другого человека «просто так», уверенный в безнаказанности своей жестокости.
Я уверен, что никакой неприятности этот охранник за такой выстрел по «беглецу» не имел. Кстати, следы на снегу показали, что недостреленный парень с буханкой хлеба шел медленно, жуя кусочки хлеба, отломанные от буханки, а не бежал. Так что рассказ о выстреле по бегущему (куда?) был вымыслом жестокого дегенерата.
Мне вспоминается другой случай, когда пуля «предупредительного» выстрела попала в человека, а не была пущена в воздух. Я только прибыл с Михалкиной протоки в Певек, навигация была в разгаре. Прибывали новые этапы заключенных, их принимала охрана, из трюмов парохода выносили трупы умерших (убитых?) заключенных. В общем все шло по обычному распорядку в период навигации. Выгружались продукты, бочки с горючим различные товары и обмундирование для заключенных. Все это под надзором охраны заключенные размещали по различным складам.
Сергей Михайлович Лунин, его жена Эдита Абрамовна Саботько, медперсонал больницы комендантского лагеря в Певеке присматривались ко мне, новому фельдшеру, определяя и оценивая мои деловые качества и, может быть, кое-что в моем характере. И вот однажды днем привозят в морг при больнице убитого заключенного. Немедленно было назначено судебно-медицинское вскрытие. Собралось всевозможное начальство, и начались недоуменные разговоры. Стрелок, застреливший этого заключенного, утверждал, что, дав предупредительный выстрел, он прицельно стрелял два раза. Однако раны на теле убитого вызывали недоуменные вопросы. Высокое начальство обратилось к хирургу Лунину, а он глубокомысленно молчал. Картина стрельбы была такая: на складе муки часовой стоял на стеллаже с мешками муки, а по двору склада бежал заключенный с наволочкой с мукой. Бегущий нес эту наволочку на спине, держа ее верхний конец правой рукой на уровне груди. После выстрелов он упал, убитый наповал. Ранения: 1) бицепс правой руки рассечен, как разрублен топором, 2) на левом боку, на уровне 9-10 ребра входное пулевое отверстие — выходное справа в области печени, 3) входное пулевое отверстие в области теменной кости головы, выход под челюстью слева, вход под большую грудную мышцу, выход из нее,и сплющенная винтовочная пуля обнаружена в белье убитого. Столько «дырок» в теле несчастного заставляло комиссию ломать голову, как это изобилие объяснить в акте двумя выстрелами.
Лунин молчал, а я, набравшись смелости, сказал: «Разрешите, я попытаюсь объяснить эти пулевые ранения». Начальство переглянулось между собой, а Лунин сказал: «Попробуй объяснить». И я объяснил, что первый неприцельный выстрел по бегущему часовой считал предупредительным, однако пуля рассекла бицепс правой руки, толчок был настолько силен, что раненый повернулся левым боком к стрелявшему, последовал прицельный выстрел в левый бок с выходом пули справа из печени, смертельно раненный стал валиться навзничь, третий выстрел, прицельный был в голову, в область теменной кости черепа. Затем пуля «нырнула» под грудную мышцу и на излете была найдена в белье.
Такой квалифицированный анализ удивил начальство и явно облегчил им составление акта. На вопрос кого-то из начальников, кто я, Лунин ответил, что это «наш работник, фельдшер с Колымы». Разумеется, Лунин составил обо мне определенное мнение.
Глава 58
Приближался конец моего заключения — 20 декабря 1947 года. Я продолжал работать в больнице прииска «Красноармейский». Периодически приходилось некоторых больных отвозить в Певек, в центральную лагерную больницу. Платис поручал мне сопровождать больного. Григорий Иванович Иванов, человек, которого я могу назвать другом своим, ибо «единомыслие создает дружбу», как сказал Демократ, в то время уже работал в больнице комендантского лагеря в Певеке, сказал мне: «Не радуйтесь, Мстислав Павлович, выходя из заключения на свободу, вы покидаете малый лагерь и переходите в большой, то есть в лагерь-страну».
Я ему ответил, что не радуюсь, так как прекрасно понимаю свое положение, чувствуя постоянно властью поставленное на меня клеймо «врага народа», что, конечно, отражено и в документах — своеобразная «Каинова печать». И я подумал, как изменила взгляды Иванова жестокая несправедливость и постоянное восприятие и наблюдение произвола и даже террора по отношению неугодных режиму, который в сущности своими деяниями показал миру все лицемерие, всю лживость, всю подлость пропаганды «самой гуманной страны социализма». Да, несправедливость и ложь действительности изменили взгляды Иванова — коммуниста, крупного советского и партийного работника Якутии, лично знавшего Серго Орджоникидзе. И когда мы с Григорием Ивановичем бывало в новогоднюю ночь выпивали по 100 грамм спирта, закусывая оленьей строганиной, Иванов произносил один тост: «Пусть издохнет!» Я прекрасно понимал, что это пожелание было адресовано Иосифу Сталину. Много, видно, пришлось испытать этому пожилому уже бывшему коммунисту в период полачского следствия, на многое у него открылись глаза.
Разумеется, я, испытавший значительно меньше того, что испытал Григорий Иванович, но наделенный, слава Богу, способностью мыслить, во многом разделял его мысли. Я явно чувствовал и понимал, что от «нашего королевства» пахнет гнилью. Мне становилось уже тогда ясно, что это диктаторское зловоние исходило от «великого и мудрого вождя всех народов». Но я понимал, что героическое самопожертвование нашего народа в труде и в обороне страны от фашистской агрессии нельзя объяснить только силой советской пропаганды. В нашем народе с древних времен заложена была забота о родной земле, стремление оберегать землю предков.
Накануне выхода в «большой лагерь» я стал подводить итоги всего пережитого и всего передуманного. Моя привычка анализировать явления человеческой жизни привела к мысли о первопричине бедствий моего народа. Все эти прокуроры, палачи-следователи, вся свора опричников — все это было условиями существования системы, установленной диктатором Сталиным. Способные мыслить прекрасно понимали, что этот «великий и гениальный вождь и учитель» вовсе не великий, тем более не гений, а в учителя совсем не годится. Но он себя аттестовал народу, как продолжатель дела Ленина, как его ученик и соратник. Тем более, что Ленин в одном своем высказывании своему «ученику и последователю» давал козырную карту. Вот эта цитата: «Советский социалистический демократизм единоличию и диктатуре нисколько не противоречит… волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более сделает и часто более необходим» (т. 40, с. 272 ПСС В. Ленина).
Выходит, Иосиф Джугашвили, он же Сталин, он же Коба следовал указаниям Ленина как его верный ученик. Кстати, почему все эти революционеры выдумывали себе клички, или как в лагере говорили воры «кликухи»? Почему не Ульянов, а Ленин, не Бронштейн, а Троцкий, не Аппельбаум, а Зиновьев? Список можно продолжить до нескольких десятков «борцов с царизмом», придумавших себе «клички». Это была конспирация? Царская охранка отлично знала их клички. Вряд ли они придумывались из отношений осторожности. Не Скрябин, а Молотов, Не Джугашвили, а Сталин. Что и зачем скрывали вы своими «кликухами», товарищи большевики, объявившие себя коммунистами? Однако по зрелом размышлении большевизм и коммунизм не одно и то же, между ними — огромное различие.
Сказать громко правду о нашей «счастливой» действительности и о ее теоретиках и практиках в годы сталинской диктатуры и разгула ежовско-бериевской опричнины означало добровольно подписать себе смертный приговор. Пример погибших, честных и отважных, обрекал других на молчание, а приспособленцев и холуйствующих — на славословие, словоблудие в унисон с официально изрекавшейся демагогической болтовней, превращавшей оболваненных в духовных импотентов. Мыслящему человеку бессовестная ложь бросалась в глаза, заставляла критически анализировать действительность и… молчать ради сохранения жизни.