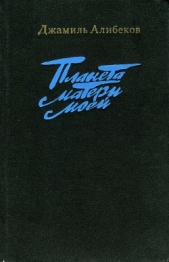Женщина в янтаре
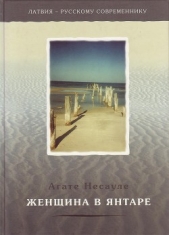
Женщина в янтаре читать книгу онлайн
Книга Агаты Несауле «Женщина в янтаре», высоко оцененная критикой, выдержала в Америке два издания (1995, 1997), удостоена премии «Wiskonsin Librarians Outstanding Achievement» (1995) и премии «American Book Award» (1996). Переведена на немецкий, шведский, датский и латышский языки.
«Ужасы войны — это только начало повествования. Всем, кому суждено было остаться в живых, приходилось учиться жить с этим страшным знанием.
Более сорока лет живу я, испытывая стыд, гнев и чувство вины. Меня спасли чужие рассказы, психотерапия, сны и любовь. Моя история — подтверждение того, что исцеление возможно.
Я молюсь, чтобы войны исчезли, и надеюсь, что все их жертвы будут поняты. Я хочу, чтобы и после того, как прекратились зверства, этим людям были дарованы нежность и любовь».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Эти несчастные создания, — вздыхает мама. Она никогда не называет живущих по соседству женщин проститутками.
— Мартин Лютер сказал… — начинает отец.
Но она не слушает.
— Искалеченные жизни, такие страшные унижения. Каждый день они, конечно, молят о смерти.
Женщины никогда не появляются на улице, днем длинная низкая веранда пустует. Возможно, после тяжелой ночной работы днем они отсыпаются, а может быть, сидят взаперти. Днем не видно и черного «кадиллака» ковбоя. Живет он в другом месте, скорее всего в роскоши, но часто появляется в неурочное время. «Кадиллак» бесшумно скользит по улице, останавливается около дома, ковбой выходит, открывает дверцу и поспешно заводит в дом еще одну женщину.
Иногда проволокут мимо опустившуюся блондинку лет пятидесяти, с сухой, белой кожей, бессмысленным взглядом, впрочем большинство женщин — чернокожие. Некоторые круглые и пухлые, с глазами такими же грустными, как у мамы. Другие стройные, живые девушки, похожие на тех, что выходят из автобуса на той же остановке, что и я, — в Шортриджскую школу. Они всего на несколько лет старше, чем другие чернокожие женщины, которым всю жизнь придется работать служанками в особняках Меридианной улицы.
Мужчины, которые бродят по нашему двору, втаптывая в плешивый газон бутылочные осколки и окурки, и писают возле нашей веранды, белые. Разговоры о предстоящей «интеграции» в городском бассейне у многих вызвали страх перед близостью черных тел и они перешли в Уэстлейк и другие «частные клубы пловцов», а вот ночной бизнес ковбоя процветает.
Мама по-прежнему моет посуду в ночном клубе «La Rue». Большую часть свободного времени она проводит в маленькой комнатушке за кухней. Вдоль стен тянутся трубы, линолеум раскрошился, вытерся и видны отпечатки, оставленные стиральной машиной и сушилкой. Двойная раковина, которой не пользуются, накрыта двумя досками, они служат туалетным столиком и письменным столом. Здесь еле-еле хватает места для одной кровати. Вернувшись с работы, она тотчас заходит туда и закрывает дверь. Мама или готовится к курсу, который ей удается получать каждый семестр в филиале университета Индианы, или приносит из библиотеки переводы русских романов, чтобы усовершенствовать свой английский. Оживляется она, лишь наткнувшись на какую-нибудь ошибку переводчика.
— Кто ему доверил переводить Достоевского? — спрашивает она. — Он ничего не знает о русских. Достоевский писал о непорочной душе, а не о целомудрии и невинности. Он высоко ставил чистоту Марии. Она была унижена и использована, но Достоевский знал, что она чиста. Он был выдающийся писатель, так как за внешним, поверхностным видел суть.
Отправляясь на очередное собрание, папа рассеянно прощается. И он, и мама серьезно относятся к своим обязанностям натурализованных граждан США, но в остальном они совершенно по-разному оценивают новую страну проживания. Папа почти все свое время проводит с латышами. Он неутомимо трудится в созданной им самим латышской общине, в Латышской общине Индианаполиса и в Латышской лютеранской церкви в изгнании. Каждый день он молится, чтобы Латвия снова обрела свободу и чтобы латыши устояли во времена угнетения и скорби.
Хотя мама была занята на физической работе, она по-прежнему верила в Америку. Ее английский становился все лучше, она старалась получать новейшую информацию о книгах, фильмах, музыке и литературной критике. Она отстаивала американскую культуру перед абсолютно не информированными латышами, которые считали, что романы в мягкой обложке, приобретаемые в продуктовых магазинах, лучшее, что придумано и сказано в Соединенных Штатах. Она обуздывала отцовские мечты о возвращении в Латвию, напоминала ему, как тяжко там приходилось женщинам, без водопровода, центрального отопления и электроприборов.
Зарплата, которую папа получает в латышской общине, гораздо меньше маминой зарплаты посудомойки. Люди только начинают обживаться в чужой стране, им необходима материальная и духовная помощь, и он с радостью ее оказывает. В лагерях он от своей работы получал только радость, здесь ему, по крайней мере, что-то платили, но он беспокоился, что нам никогда не выбраться из долгов.
Бабушка упала с лестницы в погреб и сломала тазовую кость. Она не застрахована. Мы старались ухаживать за ней дома, но в конце концов пришлось отправить ее в больницу. Я весь год проболела туберкулезом, я тоже не была застрахована. Я лежала дома, каждую неделю ко мне приходили врач и медсестра, которая делала уколы. Мне повезло, потому что как раз тогда появилось новое лекарство — стрептомицин. Я выздоровею, не умру, как мамина любимая сестра Велта в Латвии. Все мамины усилия спасти сестру, поездки из Риги с тяжелыми кислородными баллонами оказались напрасными.
Мне без конца делали рентгеновские снимки, за половину, или даже больше, любезный врач-радиолог, еврей с 34-й улицы, не выставил счетов, но мне снова приходится ложиться в больницу на бронхоскопию: я начала кашлять кровью. Я мечтала о том, что когда-нибудь вознагражу родителей за все трудности, которые им пришлось из-за меня пережить. Я мечтаю насыпать маме полный подол золотых и серебряных монет, и долларов, чтобы ей никогда больше не надо было ходить в «La Rue». Мне хочется подарить маме шелковые сорочки и элегантные костюмы. Мне хочется подать ей кресло и сказать, что она может отдыхать, сколько угодно.
Ближе к вечеру, когда лихорадка не дает мне спать, я рисую в своем воображении дом, который когда-нибудь куплю маме. Представляю все до самых мелочей. Это красивый, нарядный кирпичный дом, заросший плющом, перед ним лужайки, цветы, деревья. Дом в свободной Латвии. Я закрываю глаза и начинаю его обставлять — здесь удобные кресла, яркое освещение, новые книги, музыкальные инструменты. Мама счастлива, она улыбается и нежно обнимает меня за плечи, и вдвоем мы идем по длинной, извилистой подъездной дороге. Мы вместе сидим в библиотеке, по вечерам читаем, тихо беседуем. Окна открыты, по ночам в комнаты вливается запах левкоев.
Болезнь меня не очень беспокоит, разве что когда в припадках затяжного кашля хватаю ртом воздух, и еще — волнуюсь, что не успею наверстать пропущенное в школе. Болезнь как отдых. Мне не надо идти по длинному коридору Шортриджской средней школы. Я не вижу осуждающих взглядов, не слышу презрительного шепота, что я не такая, как все, что я пришлая. Мне легко, потому что можно отложить рассказ, которого ждет от меня мисс Гутридж, я знаю, что этот рассказ никогда не закончу. Мне нечего сказать.
Наконец из моих волос выветрился запах дезинфекции и жира «La Rue», и когда приходит мама, я сразу же чувствую этот противный смрад, смешанный с холодным воздухом. Если она подходит к моей кровати, я отворачиваюсь. С бабушкой мы играем в карты и шашки, но большую часть времени я провожу за книгой, мечтаю, сплю. Школа и работа далеко-далеко, я в безопасности, я в постели.
Только Бет вмешалась некстати. Непонятно почему, мне вдруг стала звонить одноклассница.
— Как твои дела? Тебе лучше? Что ты читаешь? Не могу ли я тебе чем-нибудь помочь?
— Нет, — отвечаю я.
Бет я знаю плохо, с какой стати ей интересоваться мной? На уроках латинского языка мы сидели на одной парте, и это все, да еще однажды на уроке химии, когда ее соседка по парте не пришла в школу, мы обе быстро и успешно справились с лабораторной работой.
— Ты готова принять гостей? — не отступает Бет. — На следующей неделе я приду тебя проведать, или через неделю, как хочешь. Тебе ведь скучно, правда? Скажи, когда я могу прийти.
— Нет, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не беспокойся, я еще слишком больна, чтобы с кем-нибудь видеться.
Как-то ближе к вечеру, когда я только проснулась, Иева, моя латышская подружка, которая почти каждый день приходит меня проведать, тихонько постучалась в дверь.
— К тебе гость. Какая-то американская барышня выходит из маленькой красной блестящей машины. Она идет к дому, с букетом цветов.
— Нет! — как заору я. Окидываю комнату чужим оценивающим взглядом. Наши с Беатой кровати тесно сдвинуты, так что ночью мне приходится перелезать через сестру, наброшенная на картонные коробки вязаная скатерка вовсе не превращает их в комод, висящий на стене кусок зеркала в трещинах — для меня и для Иевы картина обычная. Но и это не все, постельное белье мятое и влажное — во сне я потею, в корзине для бумаг испачканные кровью бумажные салфетки, наволочка тоже в пятнах крови. Я стыжусь и этого дома, и своей болезни, да и не знаю я, что сказать Бет. О чем мы с ней будем разговаривать? У нас с ней нет ничего общего.