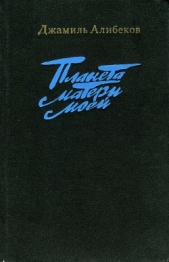Женщина в янтаре
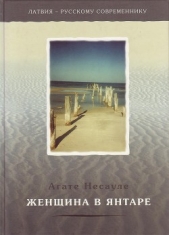
Женщина в янтаре читать книгу онлайн
Книга Агаты Несауле «Женщина в янтаре», высоко оцененная критикой, выдержала в Америке два издания (1995, 1997), удостоена премии «Wiskonsin Librarians Outstanding Achievement» (1995) и премии «American Book Award» (1996). Переведена на немецкий, шведский, датский и латышский языки.
«Ужасы войны — это только начало повествования. Всем, кому суждено было остаться в живых, приходилось учиться жить с этим страшным знанием.
Более сорока лет живу я, испытывая стыд, гнев и чувство вины. Меня спасли чужие рассказы, психотерапия, сны и любовь. Моя история — подтверждение того, что исцеление возможно.
Я молюсь, чтобы войны исчезли, и надеюсь, что все их жертвы будут поняты. Я хочу, чтобы и после того, как прекратились зверства, этим людям были дарованы нежность и любовь».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мисс Гутридж заявила, что темы сочинений — идиотская выдумка, ведь никто не покупает книгу, чтобы читать по заданной теме. Она просит нас закрыть глаза и описать первый же предмет, который увидим. Я описала всадника, который принес весть о войне и изгнании. «Допиши свой рассказ», — говорит мисс Гутридж, после того как прочла первый абзац рассказа о бездомной женщине в журнале «The Atlantic Monthly». Я написала о женщине, которая во время войны потеряла всех, кого любила, и для которой вещи больше ничего не значат.
Я боготворю мисс Гутридж. Я сделала открытие — стоит мне закрыть глаза, и я могу писать обо всем, что приходит в голову, как только подумаю, что это прочтет мисс Гутридж.
— Ты сможешь стать писательницей, — говорит мисс Гутридж. — У тебя столько ценного опыта, тебе есть о чем сказать. Я надеюсь когда-нибудь прочесть твои произведения. Зайду я однажды в какой-нибудь магазин в Нью-Йорке или Париже, возьму журнал и увижу в нем твой рассказ.
Слова ее вдохновляют, но сердце при этом сжимается. Когда мисс Гутридж грозится уехать?
В конце учебного года мисс Гутридж подарила мне «Дневник Анны Франк» с пожеланием написать повесть и о себе.
— Тебе тоже есть, о чем рассказать.
Книгу я читаю и перечитываю до тех пор, пока отдельные куски не запоминаю наизусть. Я изучаю фотографию Анны Франк на обложке, ночью перед сном представляю ее лицо, думаю о том, какие книги еще написала бы Анна, останься она жива.
В центральной городской публичной библиотеке я как одержимая разыскиваю фотографии, на которых изображены концентрационные лагеря. Вот бы набраться смелости и вырвать, выкрасть эти страницы, чтобы как следует их изучить. Обязательно должно быть что-то, чего не заметили другие. Я склоняюсь над отмеченными безысходностью лицами, на которых начертана покорность судьбе, рассматриваю иссохшие фигуры, руки и ноги, похожие на палки. Я верю, что стоит только постараться, и я отыщу Анну Франк, вот она, никем не замеченная, полная достоинства стоит среди спасенных.
В конце концов я смиряюсь с мыслью, что Анна Франк умерла, она никогда больше ничего не напишет.
Я рассматриваю гору очков, отнятых у заключенных. Книги сразу же открываются на тех страницах, которые мне нужны. Это правдивые рассказы о войне, эти люди по-настоящему страдали. Как смею я даже подумать о том, чтобы описать свои собственные незначительные трудности, свой личный жизненный опыт?
Осенью мисс Гутридж не вернулась в Шортриджскую среднюю школу. Ходили слухи, что ее уволили, но мне больше нравится думать, что она нашла работу и уехала то ли в Нью-Йорк, то ли в Париж, где жизнь ее будет интересней.
Меня не удивляет, что мисс Гутридж нет. Никто не остается. Я еще раз пробую написать рассказ, но никак не могу начать. Чувствую облегчение, когда снова заболеваю, не справившись, как всегда, со стрессом. Той осенью мне поставили диагноз — туберкулез, это значит, я буду лежать — в тишине и одиночестве.
Каждый раз, бывая в Индианаполисе, я прихожу на угол 24-й улицы и Парк-авеню. На тротуарах мусор, вязов больше нет. Домик, где был продуктовый магазин, стоит по-прежнему, но теперь в нем ломбард. Как и в других окрестных магазинчиках, окна забраны решетками. Полдюжины домов снесены, на их месте высится огромный магазин напитков, на его окнах тоже решетки. Три дома, в которых жили латыши, в страшном запустении. Там, где когда-то был газон, земля утоптана как на гумне, стекла кое-где выбиты, заколочены картоном или пластмассой. Сомневаюсь, что те, кто обитает здесь сейчас, живут такой же дружной общиной, какая существовала у нас недолгое время.
45-я школа закрыта, окна заколочены досками, на стенах граффити. Кинотеатр на Центральной авеню тоже закрыт, а сомнительные бары живы по-прежнему. На углах мужчины выпивают и подозрительно наблюдают за мной, когда я проезжаю мимо. Мне кажется, что и дома латышей скоро снесут, похоже, жить в них уже нельзя.
Один только господин Бумбиерис долгие годы жил здесь и не переезжал в другой район города. Не вспоминая больше о Мэрилин Монро, он в возрасте восьмидесяти лет застрелился.
Миссис Чигане во всем и всегда нас опережала. Она первая перебралась в Калифорнию. Первая купила тостер. Она отправила Таливалдиса в магазин за огромным караваем «Чудо-хлеба» и стучалась во все двери, приглашая к себе. Мы все толпились в тесной кухне, смотрели, как работает поставленный на середине стола тостер, по очереди закладывали в него хлеб. Мы попробовали и оценили сухарики с маслом, колбасой, виноградным желе и ореховым маслом. Миссис Чигане отправила Таливалдиса в магазин еще раз.
— На сей раз купи две буханки, — сказала она, — чтобы всем хватило. А ты, Агата, иди со мной. Попробуем на пару осилить инструкцию о пользовании скороваркой, чтобы миссис Бриедис опять не пришлось соскребывать морковь с потолка. Ну, рада, что знаешь английский?
— Да.
Я была рада. Изучение английского языка было самым прекрасным, самым захватывающим аспектом освоения Америки.
15. УХОД ИЗ ДОМА
Я не могла дождаться, когда наконец уйду из дома. Я хочу избавиться от тесноты на Парковой, где мы забаррикадировались всего в пяти кварталах от центра. Бедный, бесперспективный городской район становится все опаснее. Всего в полуквартале от нас за заброшенной церковью изнасиловали и зарезали какую-то женщину. Еще одну задушили в доме, который расположен напротив полузаброшенного доходного дома на Парковой, в котором все еще живет несколько латышских семей. Но большинство, как только появляется возможность, отсюда уезжают. Дружная латышская община, готовая поддержать любого, постепенно тает.
Я лежу в постели, слушаю радио, вопли и женские крики, доносящиеся время от времени из соседнего дома, так как бары уже закрылись. Там, во дворе, стоит очередь из мужчин, они курят, передают друг другу фляжки и бутылки, и ждут, когда наступит их черед. Иногда они путают номера домов и стучатся в нашу дверь, кричат, чтобы мы их впустили. Если папа дома, он, прежде чем зажечь свет, поспешно пристегивает воротничок американского пастора. И тогда мужчинам сразу становится ясно, что они ошиблись дверью.
Случается, выходят бабушка или мама. Голова и лоб их повязаны платком, глаза опущены, они стараются выглядеть старыми и непривлекательными — точно так же, как в погребе Лобеталя. Днем двустворчатые окна столовой закрыты тяжелыми коричневыми шторами, летом здесь жарко, зимой всегда темно. Мама часто проверяет, заперта ли дверь, на ночь мы с Беатой по ее приказанию придвигаем к двери обеденный стол. На улице мужчины пьянствуют, поглядывая на дом; может быть именно в эту минуту они прикидывают, как вломиться сюда.
Владелец соседнего дома носит белую ковбойскую шляпу и длинное блестящее кожаное пальто, похожее на шинель немецкого офицера. Мама его презирает и сердится, что у него так много посетителей.
— Опять эти пьяницы нациста-ковбоя, — кричит она, когда кто-то стучится в дверь. — Не показывайся им, Агата. Запомни, Беата, если кто-нибудь из них начнет ломиться в дверь, прячьтесь в шкафу.
Она ждет, пока мы не уходим в дальнюю спальню. И тогда только кричит у запертой двери:
— Уходите! Вы перепутали дом!
— Нет дома! — бабушка произносит единственные известные ей английские слова, точно так же отвечает она и на телефонные звонки.
И только если мужчины продолжают стучать, мама зажигает свет и указывает на соседний дом. Бабушка энергично трясет головой, чтобы мужчины увидели сквозь маленькое оконце в двери, которая открывается прямо в комнату, что их не пустят.
— Я могла бы сказать, что свою жизнь они могли бы прожить потолковее, но не собираюсь учить английский язык, — говорит бабушка, когда шаги удаляются. — Мне и так пришлось выучить достаточно языков — в Сибири русский, в Москве французский, в Латвии немецкий. Не стану я в восемьдесят лет учить еще один, чтобы посылать нацисту-ковбою клиентов и умножать его богатство.