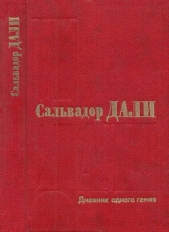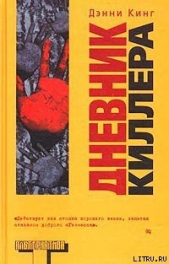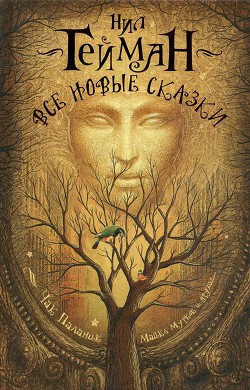Дневник (1901-1929)

Дневник (1901-1929) читать книгу онлайн
Трудно представить себе, что дневник пишут, думая, что его никто никогда не прочтет. Автор может рассчитывать, что кто-нибудь когда-нибудь разделит его горести и надежды, осудит несправедливость судьбы или оценит счастье удачи. Дневник для себя - это - в конечном счете - все-таки дневник для других
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В самом деле: что за церемонии! У меня все время было чувство, что церемоний вообще никаких не осталось, все начистоту, откровенно. Кому какое дело, как зовут ту ненужную падаль, которую сейчас сунут в печь. Сгорела бы поскорее — вот и все. Но падаль, как назло, не горела. Печь была советская, инженеры были советские, покойники были советские — все в разладе, кое-как, еле-еле. Печь была холодная, комиссар торопился уехать.— Скоро ли? Поскорее, пожалуйста.— Еще 20 минут! — повторял каждый час комиссар. Печь остыла совсем. <...> Но для развлечения гроб приволокли раньше времени. В гробу лежал коричневый, как индус, хорошенький юноша красноармеец, с обнаженными зубами, как будто смеющийся, с распоротым животом, по фамилии Грачев. (Перед этим мы смотрели на какую-то умершую старушку — прикрытую кисеей — синюю, как синие чернила.) <...> Наконец, молодой строитель печи крикнул: — Накладывай!— похоронщики в белых балахонах схватились за огромные железные щипцы, висящие с потолка на цепи, и, неуклюже ворочая ими и чуть не съездив по физиономиям всех присутствующих, возложили на них вихлящийся гроб и сунули в печь, разобрав предварительно кирпичи у заслонки. Смеющийся Грачев очутился в огне. Сквозь отверстие было видно, как горит его гроб — медленно (печь совсем холодная), как весело и гостеприимно встретило его пламя. Пустили газу — и дело пошло еще веселее. Комиссар был вполне доволен: особенно понравилось всем, что из гроба вдруг высунулась рука мертвеца и поднялась вверх — «Рука! рука! смотрите, рука!» — потом сжигаемый весь почернел, из индуса сделался негром, и из его глаз поднялись хорошенькие голубые огоньки. «Горит мозг!» — сказал архитектор. Рабочие толпились вокруг. Мы пo-очереди заглядывали в щелочку и с аппетитом говорили друг другу: «раскололся череп», «загорелись легкие», вежливо уступая дамам первое место. Гуляя по окрестным комнатам, я со Спесивцевой незадолго до того нашел в углу... свалку человеческих костей. Такими костями набито несколько запасных гробов, но гробов недостаточно, и кости валяются вокруг. <...> кругом говорили о том, что урн еще нету, а есть ящики, сделанные из листового железа («из старых вывесок»), и что жаль закапывать эти урны. «Все равно весь прах не помещается». «Летом мы устроим удобрение!» — потирал инженер руки. <...>
Инженер рассказывал, что его дети играют в крематорий. Стул это — печь, девочка — покойник. А мальчик подлетит к печи и бубубу! — Это — Каплун, к-рый мчится на автомобиле.
Вчера Мура впервые — по своей воле — произносила папа: научилась настолько следить за своей речью и управлять ею. Все эти оранжевые голые трупы тоже были когда-то Мурочками и тоже говорили когда-то впервые — па-па! Даже синяя старушка — была Мурочкой.
4 января. Вчера должно было состояться первое выступление «Всемирной Литературы». Ввиду того, что правительство относится к нам недоверчиво и небрежно, мы решили создать себе рекламу среди публики, «апеллировать к народу». Это была всецело моя затея, одобренная коллегией, и я был уверен, что эта затея отлично усвоена Горьким, которому она должна быть особенно близка. Мы решили, что Горький скажет несколько слов о деяниях Всемирной Литературы. Но случилось другое.
Начать с того, что Горький прибыл в Дом Иск. очень рано. Зашел зачем-то к Шкловскому, где стоял среди комнаты, нагоняя на всех тоску. (Шкл. не было.) Потом прошел ко мне. Я с Добужинским попробовал вовлечь его в обсуждение программы Народных чтений о литературе в деревне, но Горький понес такую скучную учительную чепуху, что я прекратил разговор: он говорил, напр., что Достоевского не нужно, что вместо характеристик Гоголя и Пушк. нужно дать «краткий очерк законов развития литературы». Это деревенским бабам и девкам. Потом пришел Белопольский, Горький еще больше насупился. Только с Марьей Игнатьевной Бенкендорф у него продолжался игривый и интимный разговор. Торопился он выступить ужасно. Я насилу удержал его до четверти 8-го. Публика еще собиралась. Тем не менее он пошел на эстраду, сел за стол и сказал: «Я должен говорить о всемирной литературе. Но я лучше скажу о литературе русской. Это вам ближе. Что такое была русская литература до сих пор? Белое пятно на щеке у негра, и негр не знал, хорошо это, или это болезнь... Мерили литературу не ее достоинствами, а ее политич. направлением. Либералы любили только либеральную литературу, консерваторы только консервативную. Очень хороший писатель Достоевский не имел успеха потому, что не был либералом. Смелый молодой человек Дмитрий Писарев уничтожил Пушкина. Теперь то же самое. Писатель должен быть коммунистом. Если он коммунист, он хорош. А не коммунист — плох. Что же делать писателям не коммунистам? Они поневоле молчат. Конечно, в каждом деле, как и в каждом доме, есть два выхода, парадный и черный. Можно было бы выйти на парадный ход и заявить требования, заявить протест, но — приведет ли это к каким-ниб. результатам? Потому-то писатели теперь молчат, а те, к-рые пишут, это главн. обр. потомки Смердякова. Если кто хочет мне возразить — пожалуйста!
Никто не захотел. «Как любит Горький говорить на два фронта»,— прошептал мне Анненков. Я кинулся за Горьк. «Ведь нам нужно было совсем не то». И рассказал ему про нашу затею. Оказывается, он ничего не знал. Только теперь ему стало ясно — и он обещал завтра (т. е. сегодня) прочитать о «Всем. Лит.».
5 января. <...> Во «Всем. Лит.» проф. Алексеев читал глупый и длинный доклад — об английской литературе (сейчас) — и в этом докладе меня очаровала чья-то статья о Чехове (переведенная из «Athenaeum'a») — и опять сердце залило как вином, и я понял, что по-прежнему Чехов — мой единств, писатель.
12 января. <...> Был я третьего дня у Блока. Тесно: жена, мать, сестра жены, кошкообразная Книпович. О стихах Блока: «Незнакомку» писал, когда был у него Белый — целый день. Белый взвизгивал, говорил — «а я послушаю и опять попишу». Показывал мне парижские издания «Двенадцати». Я заговорил о европейской славе. «Нет, мне представляется, что есть в Париже еврейская лавчонка — которой никто не знает — и она смастерила 12».— «Почему вы пишете ужь, а не ужъ?»2 — «Буренин высмеял стихотворение, где ужъ, приняв за Живого ужа».— «Что такое у вас в стихах за «Звездная месть»?—«Звездная месть»— чепуха, придуманная черт знает зачем, а у меня было раньше: «ах, как хочется пить и есть».
«Мой Христос в конце «Двенадцати», конечно, наполовину литературный,— но в нем есть и правда. Я вдруг увидал, что с ними Христос — это было мне очень неприятно — и я нехотя, скрепя сердце — должен был поставить Христа».
Он показал мне черновик «Двенадцати» — удивительно мало вариантов отвергнутых. Первую часть — больше половины — он написал сразу — а потом, начиная с «Невской башни», «пошли литературные фокусы». Я задавал ему столько вопросов о его стихах, что он сказал: «Вы удивительно похожи на следователя в Ч. К.»,— но отвечал на вопросы с удовольствием3. «Я все ваши советы помню,— сказал он мне.— Вы советовали выкинуть куски в стих. «России», я их выкину. Даты поставлю». Ему очень понравилось, когда я сказал, что «в своих гласных он не виноват»; «Да, да, я их не замечаю, я думаю только про согласные, отношусь к ним сознательно, в них я виноват. Мои «Двенадцать» и начались с согласной ж:
Уж я ножичком
Полосну, полосну». <...>
2 февраля. Гумилев — Сальери, который даже не завидует Моцарту. Как вчера он доказывал мне, Блоку, Замятину, Тихонову, что Блок бессознательно доходит до совершенства, а он — сознательно. Он, как средневековый схоласт, верует в свои догматы абсолютно-прекрасного искусства. Вчера — он молол вздор о правилах для писания и понимания стихов. <...> В своей каторжной маяте — работая за десятерых — для того чтобы накормить 8 человек, которых содержу я один,— я имел утренние часы для себя, только ими и жил. Я ложился в 7—8 часов, вставал в 4 и писал или читал. Теперь чуть я сяду за стол, Марья Борисовна несет ко мне Мурку — подержи! — и пропало все, я сижу и болтаю два-три часа: кисанька, кисанька мяу, мяу, кисанька делает мяу, а собачка: гав, гав, собачка делает гав, гав, а лошадка но, но! гоп! гоп! — и это каждый день. Безумно завидую тем, кто имеют хоть 4 часа в день — для писания. Это время есть у всех. Я один — такой прóклятый. После убаюкивания Мурки я занимаюсь с Бобой. Вот и улетает мое утро. А в 11 час. куда-нибудь — в Петросовет попросить пилу для распилки дров, или в Дом Ученых, не дают ли перчатки, или в Дом Литераторов — нет ли капусты, или в Петрокомнетр, когда же будут давать паек, или на Мурманку — нельзя ли получить продукты без карточки и т. д. А воинская повинность, а детские документы, а дрова, а манная крупа для Мурочки — из-за фунта этой крупы я иногда трачу десятки часов.