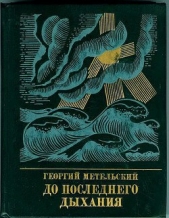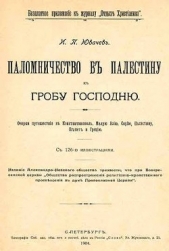Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском

Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском читать книгу онлайн
Станислав Рассадин — литературовед и критик, автор ряда книг, в частности биографической повести «Фонвизин», работ, связанных с историей России и русской литературы: «Драматург Пушкин», «Цена гармонии», «Круг зрения», «Спутники» и других.
Новая его повесть посвящена Ивану Ивановичу Горбачевскому — одному из самых радикальных деятелей декабристского Общества соединенных славян, вобравшего в себя беднейшую и наиболее решительную по взглядам частьреволюционно настроенного русского офицерства. За нескончаемые годы сибирской ссылки он стал как бы совестью декабризма, воплощениемего памяти. После окончания каторжного срока и даже после высочайшей амнистии он остался жить в Петровском Заводе — место своей каторги. Отчего? Это одна из загадок его героически-сложной натуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он не изменил Славянским демократическим правилам и в том, что, много знавший и видевший самолично, все же не захотел довериться только собственным наблюдениям и соображениям. В «Записках», как в артельном котле, переварились и перекипели рассказы многих и многих, «Записки» — итог разговоров, расспросов, расследований, они — плод его труда и в то же время дело общественное.
Res publica, по-латыни.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПОДВИГ
БЕССОННИЦА 1868 года. Декабря 21 дня
«…Распахнулись двери кабинета, и вошел император Николай, быстрыми шагами подошел к пам,
— Чего вы хотели? Конституции?
— Нет, государь, — сказал Н.,— мы имели намерение образовать федерацию из всех славян…
— Я, государь, не могу справиться с такой идеей, чтобы объединить всех славян, а вы самовольно, сумасбродно задумали вершить судьбами народов…
Дальнейшую эпопею вы знаете
— Приблизьтесь!..
Генерал-адъютант Чернышев извлекает из этого приказного возгласа удовольствие, вполне понятное только ему, но несомненное, явленное напоказ, тычущееся в глаза, лезущее в уши.
Повелел — и ждет, покручивая то ус, то аксельбант, точно перед ним не подследственный Иван Горбачевский, а венецианское зеркало, и он в нем отражается в полной красе, гордящийся затянутым станом и цветом лица. Нарумяненный, как… старая кокетка!
Э, нет, последнее-то словцо еще не могло прийти на ум двадцатипятилетнему подпоручику, которому в те минуты было, пожалуй, и не до ядовитых наблюдений. Это, вероятно, подумалось гораздо после, задним числом, когда Басаргин, — кажется, он — рассказывал, как незадолго до событий двадцать пятого года застал Чернышева в полном смысле дезабилье и в смысле прямом без прикрас. По служебному и неотложному делу он был как-то принужден заявиться к генерал-адъютанту в ночное время, прямо в спальню его, и с изумлением увидал вместо молодящегося красавца какую-то старуху в чепце, из-под которого клочились седые волосы…
Непостижное дело — бессонница!
В отрочестве, покуда Иван Иванович еще бегал Ванечкой, — это, положим, только для матушки, для отца он с пеленок стал Иваном, — он наслушался вдоволь, как родитель честит маету-бессонницу, коей мучился люто, но никак ие мог взять в мальчишеский толк: отчего? Ведь ребенку, которому никогда не хватает дня, хуже нет, как укладываться на ночь в постель, и хотя уж его-то, Ивана — Ванечку, не терзали оранжерейной заботливостью, все же мечталось: будь его вольная воля, вовсе не спал бы!..
Воспоминание заставило его улыбнуться — именно что заставило, протолкнувшись насильно сквозь тупую боль и выдавив на губы улыбку.
Ежели бы так… А тут — когда и сама боль наконец-таки отступает и таится до случая на недальних рубежах, как неразбитый противник, даже в этот час сердце тоскливо стонет от неслыханного, немыслимого одиночества, — словно ты затерянный Робинзон. Только тот, из книжки, дышал надеждой воротиться в мир людей, а для тебя этот мир — вот он, рядышком, вокруг тебя: бескрайний, нерасторжимо и отчужденно слитный, равнодушно и ровно дышащий. Рядом — а что ему до тебя за дело? Нет между ним и тобой океанского расстояния, — стало быть, и стремиться некуда.
Не так давно еще вот что утешительно думалось: что ж, худо без добра не ходит, пусть хоть такой целой, да зато обретаешь пронзительную силу памяти, резко выхватывающей картины, лица и имена из отжитого и, казалось, забытого, — так нет же, и это утешение оказалось из разряда детских мечтаний. Сама эта резкость болезненна и чрезмерна, от нее память двоится, как двоится изображение в вытаращенном глазу, слезящемся от напряженного вглядывания, а бессонница — она тоже род жестокого, изнурительного сна, разве что от нее не проснешься в счастливом поту: «Слава тебе, пронесло, приснилось…»
Давнее и недавнее, несбывшееся и былое в бессоннице смешиваются и смещаются, так что потребно особенное усилие рассудка, чтобы время не наползало на время и воспоминание не сдваивалось, не туманилось, не расплывалось, — однако порядок тех допросов и десятилетия спустя видится с несмазанной отчетливостью. Да и как иначе: отработан был ритуал, отклонений отнюдь не допускалось, и, боже мой, сколько же раз все это было повторено…
Иван Иванович прикрыл глаза.
«Присылаемого Горбачевского посадить по усмотрению и содержать строго.
С.-П. 3 февраля 1826 г»
Из «Реестра высочайшим собственноручным
его императорского величества повелениям,
последовавшим на имя генерал-адъютанта
Александра Яковлевича Сукина»,
составленного последним
Невская куртина Петропавловской крепости… да, покамест еще Невская; в Кронверкской он будет сидеть уже после того, как им всем объявят сентенцию, и это из ее окна, полузамазанного белой краской, увидит пятерых, идущих к виселицам.
Нумер 23. То есть в этот арестантский покой Горбачевского привели в его первый же петербургский день, несколько часов продержав на главной гауптвахте и сняв начальный допрос; потом был нумер 31 в той же Невской куртине, да это все едино, ибо единообразно, как сама неволя. Деревянные внутренние стены в глубоких трещинах, потому что ставили их, разумеется, из сырого леса и железные печи, раскаляясь, сделали свое дело, — слава богу, для арестантов отнюдь не черное. Оплошка строителей облегчила возможность перестукиваться и переговариваться через ненадежные стены, не будучи услышанными часовыми сквозь двери — вполне надежные. Стол с ночником. Оловянная кружка. Тарелка — оловянная тож…
Вот, между прочим, повод для размышления — грустного — и для вывода — вполне нравоучительного.
Власть, привыкшая царить над холопами, холопство в них и ценя, сама заражается их духом, и любопытно бывает ее предпочтительное уважение к тем, кого она полагает главнейшими из своих врагов. Уважение палача, который пытает особенно опасного узника с особенным же усердием, а сам не без тайного страха и даже подобострастия поглядывает на него. В Алексеевском равелине, в девятом круге Дантова ада, по сравнению с которым Невская или Кронверкская куртины суть круги всего лишь шестой или седьмой, там, где заключенным приходилось круче, а подчас и голоднее, им подавали ко гнилым щам и подгорелой каше столовое серебро!
Намеренное издевательство, изощренное напоминание об отнятом благополучии? Нет, и тут была своя табель о рангах…
Два стула. Помянутая благодетельница-печь. Деревянная кровать, крашенная зеленой казенной краской. Тюфяк, набитый мочалою. Грубого холста простыня. Солдатское госпитальное одеяло. Перяная подушка. Все?
Кажется, все… Нет, позабылась необходимая вещь — стульчак.
Как во всякую ночь, стоит тишина, нарушаемая — по крайней мере, до той счастливой поры, когда Михаил Бестужев придумал шифр для перестукивания и пустил его по цепочке, из нумера в нумер, — только крепостными курантами, непатриотически вызванивавшими английское: «God save the King» {12},— впрочем, что еще им оставалось? Любезное отечество не торопилось обзавестись гимном вполне национальным, и куранты из часа в час продолжали уговаривать всевышнего, дабы он хранил заморского монарха.
Но коридору вольно печатают шаг твердые каблуки — значит, гость: хозяева, то бишь караульные, ходят в валеных башмаках. Последняя печать — стук! — ставится возле твоей двери. Сквозь решетку махонького стеклянного окошка, прорезанного в ней и обычно закрытого фланелевым колпаком, в тебя утыкаются глаз и ус часового. Скрежеща и даже поскуливая, будто жалуясь на собственную заржавелость, отмыкается замок, — плац-майор Егор Михайлович Подушкин из отъявленных экономов, а масло, как нарочно, опять вздорожало.