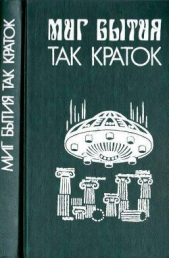Книга бытия (с иллюстрациями)

Книга бытия (с иллюстрациями) читать книгу онлайн
Двухтомный роман-воспоминание Сергея Снегова «Книга бытия», в котором автор не только воссоздаёт основные события своей жизни (вплоть до ареста в 1936 году), но и размышляет об эпохе, обобщая примечательные факты как своей жизни, так и жизни людей, которых он знал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Уж не знаю, что произошло в его типографии. Не думаю, что Осип Соломонович проштрафился — к нему приходили бывшие коллеги, на юбилей наградили грамотой, вручили подарки. О плохом отношении это не говорит. Вероятно, просто были закрыты какие-то типографские отделы… Для семьи настали трудные времена. Базары ломились от продовольствия, магазины манили соблазнительными вещами — а у нас не было денег.
Между прочим, одесское продовольственное благополучие возродилось поразительно быстро! Сегодня мы сетуем, что никак не наладим нормальное сельское хозяйство. То ли бедны землей (ну, нет у нас никаких полей, лугов и степей!), то ли рабочих рук не хватает (каких-нибудь двести сорок миллионов населения), то ли руководители вконец бездарны, то ли экономическая система малоэффективна — только по всей стране (за исключением, понятно, столиц) много лет бездействуют мясные магазины, выстраиваются очереди за молоком, кое-где даже о сыре и масле знают лишь понаслышке. А после страшных потрясений — мировой и гражданской войн, истребительного голода — изобилие вернулось буквально за два года (во всяком случае — на рынки). Промышленность пробуждалась медленно — сельское хозяйство расцвело. Взрыв — так это видится через десятилетия.
А меня в те годы вдруг одолела странная болезнь — отвращение к определенным видам пищи. С жареным мясом это было еще понятно — просто я не мог забыть, как пахли ноги голодного беженца. Но я отказывался есть масло, молоко, сыр, сметану, яйца всмятку, жареную рыбу, все виды грибов… Пока борьба шла с продуктовыми изысками, мама терпела — мои капризы не били по тощему кошельку. Но когда список ненавистников пополнили мамалыга, перловка, ячкаша, она вознегодовала. Сыновья привередливость становилась экономически разорительной!
Мама пыталась вразумить малолетнего бойца — объясняла, что кормить меня колбасами и ветчиной, гречкой и свиным салом ей не по карману. Я соглашался, что дорогая еда не для меня, но не сдавался.
Тогда она применила более действенную тактику: уходя в киоск, оставляла мне на обед только то, что я наотрез отказывался есть. Я спокойно скармливал еду Жеффику и терпеливо ожидал ужина. Находя вечером пустые тарелки, мама радовалась — подействовало!
Скоро я понял, что способ защиты выбран неверный: я-то стоял насмерть, но оценить этого мама не могла. И потом: я же не мог всю жизнь оставаться без обедов! Жеффику пришлось голодать вместе со мной. Это ему не нравилось. Но он понимал, что у меня жестокая война с его хозяйкой — стало быть, нужно терпеть. Он терпел, я терпел — не вытерпела мама.
Сперва она поколотила меня — разика два. Эффект, естественно, был обратным: вместо того чтобы покорно присесть к столу, я в бешенстве стал швырять тарелки на пол. Она пыталась высечь меня по-серьезному — я удрал на улицу и не возвращался, пока не пришел Осип Соломонович (при отчиме мама волю рукам не давала, только жаловалась). Он поговорил со мной как мужчина с мужчиной: он временно безработный, маминой зарплаты на троих не хватает — откуда брать деньги на то, что мне нравится? Не кажется ли мне, что я веду себя нехорошо?
Я охотно признал, что поведение мое и вправду не ахти. И если бы я мог, мигом стал бы примерным мальчиком — мечтаю о том, чтобы меня хвалили. Но у меня не получается. Примерность в меня не лезет. Я скорей умру, чем прикоснусь к таким отвратительным вещам, как сыр и жареное мясо, сметана и яйца всмятку. Я не прошу ничего взамен. Я готов питаться одним хлебом — пусть мама не трудится готовить разносолы (в смысле — мамалыги, перловки и всякие кефиры со сливочным маслом). Это не для меня — отныне и навсегда.
В квартире началась война. Я был готов на любое сопротивление, вплоть до ухода в беспризорники — их теперь в городе много, чем я хуже? Даже не постеснялся пригрозить бегством из дому. Мама знала, что я — из сатанинского упрямства — способен сделать все, о чем сдуру сболтнул. Меня нужно было переломить решительно и бесповоротно. И она придумала гениальный план — его осуществление оборвало распри, связанные с едой.
Самым отвратительным было для меня подсолнечное масло. Я отказывался его есть с раннего детства, задолго до того, как возникла ненависть к другим продуктам. Все, что на нем готовили, было не для меня. Мама часто говорила:
— Ты возненавидел подсолнечное масло еще во чреве — меня, беременную, мутило от его запаха.
Этот внутриутробный антагонизм был серьезной индульгенцией — и я отвергал все, что имело отношение к маслу (даже просто стояло рядом с бутылкой). Мама, конечно, готовила на нем — для себя и отчима, но ей и в голову не приходило предлагать эту еду мне. И вот, готовясь к победе в затянувшейся войне, она рассудила, что масло отлично сойдет за тот снаряд, который пробьет брешь в моих антикулинарных укреплениях.
Операция была проведена блестяще! В понедельник, когда киоск не работал, мама пожарила на постном масле картофельные оладьи, а потом — для камуфляжа — пережарила их на свином сале (я его очень любил и люблю). Делалось это все, естественно, втайне, пока я слонялся по улицам. В обед она с невинным видом поставила оладьи на стол, сказала: «Твои любимые, на сале!» и стала ждать — с затаенным торжеством.
Мы пообедали, еще немного — и можно было трубить победу: «Вот ты какой! Ешь постное масло, и ничего с тобой не происходит. Теперь и слушать не буду твои выдумки! Будешь есть то, что и мы с Осипом Соломоновичем!» Но час торжества не настал. Меня стало выворачивать. Меня сводила жестокая судорога. Опустошенный, я не мог доползти до кровати, мама помогла мне улечься. Отчим убежал из дома.
Я лежал, снова вскакивал, в судорогах падал на пол (вероятно, и сознание терял). Осип Соломонович вернулся со своим добрым знакомым, знаменитым в Одессе толстяком — профессором Зильбербергом. Зильберберг долго сидел у моей кровати, щупал пульс, клал руку на лоб, что-то говорил маме, выписывал лекарство…
Потом я все выспрашивал у отчима, что сказал профессор. Наконец Осипу Соломоновичу это надоело — и он раскололся.
— Тебе было очень плохо, Сережа, ты был такой бледный — страшно смотреть. И тебя пробил пот, ты очень похолодел — это больше всего испугало маму. Зильберберг сразу сказал: малыш отравился — чем вы его отравили? Мама все рассказала — и знаешь, что он ответил? Он сказал так: мадам Штейн, вы потеряли четырех детей, у вас остался один. И если вы будете продолжать эксперименты с едой, которая не по душе вашему единственному ребенку, так лишитесь и его тоже. За это я вам ручаюсь.
В понедельник киоск был закрыт законно — но во вторник он тоже не открылся. Я лежал, обложенный полотенцами и шалями, накрытый перинами и одеялами, в ногах тепло примостился Жеффик. Мама не отходила от моей постели.
На другой день я поднялся. Все волшебно переменилось. Внушительная бутыль с подсолнечным маслом — трехлитровая «рыковка» — исчезла. На стол ставилось только то, что я заведомо любил. И если я говорил: «Этого не хочу!» — «это» немедленно убирали. Никаких упреков, никаких споров, никаких уговоров — еще долго даже мимолетный мой продуктовый каприз становился для мамы категорическим императивом.
Боюсь, я беззастенчиво пользовался этой свободой воли. Впрочем, непривычная мамина покорность вскоре привела к парадоксальному результату: мне стало совестно терзать ее каждодневными выбрыками. Постепенно установился модус вивенди: она готовила то, что мне нравилось, — я понемногу расширял список приемлемого (возвратился к молоку, яйцам, жареному мясу, даже сливочному маслу — в готовку, а не на хлеб). Только сыр, грибы да сметана еще лет двадцать оставались под запретом. А подсолнечное масло — всю жизнь.
Уже после войны я приехал в Одессу и заметил, что на маминой кухне нет постного масла. Меня растрогало, что она помнит о моих пищевых извращениях и не хочет портить мне аппетита. Но вид масла на меня уже не действовал — лишь бы в еду не лили. И я сказал: сама-то она может пользоваться им свободно — обещаю не ворчать.
— Я давно его не ем, люблю, а не ем, — грустно ответила она. — Когда ты лежал, ужасно бледный, с закрытыми глазами, и я все думала, что ты не выживешь, я приказала себе даже рукой не касаться этого проклятого масла! В немецкую оккупацию совсем без жира сидела — а его взять не могла.