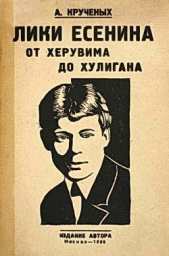О других и о себе

О других и о себе читать книгу онлайн
Автобиографическая проза Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986), одного из самых глубоких и своеобразных поэтов военного поколения, известна гораздо меньше, чем его стихи, хотя и не менее блистательна. Дело в том, что писалась она для себя (или для потомков) без надежды быть опубликованной при жизни по цензурным соображениям.
"Гипс на ране — вот поэтика Слуцкого, — сказал Давид Самойлов. — Слуцкий выговаривает в прозу то, что невозможно уложить в стиховые размеры, заковать в ямбы". Его "Записки о войне" (а поэт прошел ее всю — "от звонка до звонка") — проза умного, глубокого и в высшей степени честного перед самим собой человека, в ней трагедия войны показана без приукрашивания, без сглаживания острых углов. В разделе "О других и о себе" представлены воспоминания Слуцкого о своих товарищах по литературному цеху — Н. Асееве, А. Ахматовой, И. Эренбурге, Н. Заболоцком, А. Твардовском, И. Сельвинском, С. Наровчатове, М. Кульчицком, а также история создания некоторых наиболее известных его стихотворений. Раздел "Из письменного стола" включает в себя фрагментарные мемуарные записи, отличающиеся таким же блеском и лаконизмом, как и вся проза Слуцкого. Большинство материалов, включенных в книгу, публикуется впервые
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мне они тогда нравились, а первая и третья строки нравятся и сейчас. Грустно было с ними расставаться, но пришлось — они затягивали действие.
Так я тогда учился немаловажному искусству вычеркивания, искусству, дающемуся так редко. Поэты куда получше меня — скажем Маяковский — его так и не освоили. Жизнь, которою я жил четыре года, была жестокой, трагичной, и мне казалось, что писать о ней нужно трагедии, а поскольку настоящих трагедий я писать не мог, писал сокращенные, скомканные, сжатые трагедии — баллады.
Позже я додумался до того, что жестокими могут быть не только трагедии, но и романсы. Еще позже, что о жестоких вещах можно писать и нежестоким слогом.
До сих пор в «Госпитале» мне нравится отношение к религии, понимание непростоты, неполноты, неокончательности ее упразднения.
Итак, многие месяцы я ходил по рано пустевшим улицам Крайовы (а впоследствии — по харьковским и московским улицам) и, как Демосфен камешки, перекатывал во рту «Госпиталь», изредка меняя что‑нибудь.
К тому времени, когда я стал читать «Госпиталь» товарищам — поэтам, мною вполне овладела гордыня — пропорционально трудовым затратам. Товарищам казалось, что стихи «в ряду». Мне — что стихи «из ряду вон». Товарищам казалось, что стихи хорошие, мне — что стихи новые. Добавилось еще одно обстоятельство. Товарищи продолжали писать Я бросил — на три года. Болел я так активно и целеустремленно, что часто думал — писать больше не придется и «Госпиталь» — единственное мое стихотворение, которое нравится мне самому. Если совсем нехорошо быть автором единственной пятиактной пьесы, то единственное стихотворение — это уж совсем шинель Акакия Акакиевича, сомневаться в которой сослуживцам не подобает. Не сомневаясь в шинели, я начал сомневаться в сослуживцах.
Так или иначе — хорошее это было время и вспоминать о нем — радостно.
Оказывается, стихи, как народы в старинных историографиях, бывают исторические и неисторические. Даже в таких небольших историях, как моя собственная.
С этим стихотворением никаких историй не происходило, разговоры о нем, скорее, впрочем, доброжелательные, были очень негромкими, и тем не менее вряд ли мне удалось когда- нибудь написать что‑нибудь лучшее.
В собственных стихах мне нравится не средний или среднехороший уровень, а немногочисленные над ним взлеты, не их реалистически — натуралистическое правило, а реалистически- символические исключения.
Прыгнуть выше самого себя удается редко. В этом случае я, наверное, прыгнул. Есть еще такой признак: волнение, которое я испытываю, читая это стихотворение вслух. Видимо, есть причины для этого волнения.
Только очень немногое вызывает у меня примерно то же чувство. Что именно? Конечно, «Старуха в окне», в свое время «Госпиталь», «Хозяин». (Остаток страницы не дописываю. Может быть, вспомню еще что‑нибудь.)
«Давайте после драки…» было написано осенью 1952–го в глухом углу времени — моего личного и исторического. До первого сообщения о врачах — убийпах оставалось месяц- два, но дело явно шло — не обязательно к этому, а к чему‑то решительно изменяющему судьбу. Такое же ощущение — близкой перемены судьбы — было и весной 1941 года, но тогда было веселее. В войне, которая казалась неминуемой тогда, можно было участвовать, можно было действовать самому. На этот раз надвигалось нечто такое, что никакого твоего участия не требовало. Делать же должны были со мной и надо мной.
Повторяю: ничего особенного еше не произошло ни со мной, ни со временем. Но дело шло к тому, что нечто значительное и очень скверное произойдет — скоро и неминуемо.
Надежд не было. И не только ближних, что было понятно, но и отдаленных. О светлом будущем не думалось. Предполагалось, что будущего у меня и у людей моего круга не будет никакого. Примерно в это же время я читал стихи Илье Григорьевичу Эренбургу, и он сказал: «Ну, это будет напечатано через двести лет». Именно так и сказал: «через двести лет», а не лет через двести. А ведь он был человеком точного ума, в политике разбирался и на моей памяти неоднократно угадывал даже распределение мандатов на каких‑нибудь западноевропейских парламентских выборах.
И вот Эренбург, не прорицатель, а прогнозист, спрогнозировал для моих стихов (для «Давайте после драки…» в том числе) такую, мягко говоря, посмертную публикацию.
Я ему не возражал.<…>
Той же осенью, провожая знакомую, я сказал ей: «Я строю на песке», — и вскоре написал об этом стихотворение.
Итак, без надежд и перспектив я выстроил на песке «Давайте после драки…» и сразу же начал читать по компаниям — у Тоома, Тимофеева, Шахбазова. Позднее я объявил это стихотворение посмертным монологом Кульчицкого и назвал «Голос друга». Позднее, через год — два, у меня уже не было оснований для автопохорон. Драка продолжалась. Но осенью 1952 года ощущение было именно такое: после драки.
При переезде с квартиры на квартиру все мое имущество тогда умещалось в одном чемодане. Единственным достоянием, настоящими пожитками были четыре года войны. Они создавали какие‑то права — пусть непризнаваемые. Я‑то сам отказываться от этих прав не собирался.
Фанерные (или просто деревянные) обелиски, установленные на могильном холмике и увенчанные пятиконечной, жестяной, вырезанной из консервной банки звездой, устанавливались на солдатских могилах сразу после похорон.
Много лет спустя их заменяли бетонными обелисками же, еще позднее — каменными.
Почему обелиск был единственной фигурой, которую буквально вся армия признала достойной своих мертвецов? Кто знает. Если и была по этому поводу какая‑либо инструкция, она только оформила задним числом это всеобщее пристрастие.
Да и можно ли назвать обелиском эту небольшую, иногда полуметровую пирамидку с усеченной верхушкой?
Стихотворения о голых людях «ИВАНЫ», «БАНЯ», «ПЛЯЖИ 46–го ГОДА». Еще в детстве мне запомнилось рассуждение бродяги из «Янки при дворе короля Артура» о том, что в тюрьму он попал за высказанное публично мнение о голых людях — герцог в бане неотличим‑де от слуги.
Это неправильное рассуждение. В особенности после больших войн тела человеческие выглядят очень различно.
Осенью 1945 года в бане румынского города Крайовы, довольно, впрочем, грязной и тесной, я от нечего делать сначала разделял моющихся на наших и румын, а потом примысливал к их шрамам возможные биографии. Там же, на выходе из бани, я сочинил «Иванов», а потом торопливо их записал, чтобы не забыть.
Иваны — всеобщее самоназвание наших солдат (да и офицеров) в военные годы. Откуда оно пошло? От немецкого ли «Рус — Иван» или просто потому, что имя традиционно связывалось с простым народом?
Другие самоназвания: славяне (связано с одной из главных тем нашей пропаганды), елдаши (от тюркского «товарищ») — так иногда обращались к офицерам, а может быть, и друг к другу солдаты среднеазиатского происхождения.
В словах «Иваны» и «славяне» гордости было больше, чем иронии.
В стихотворении — ни слова о голых людях, но, по — видимому, бесстрашно парившиеся солдаты…
Н. Н. Асеев и вожди
О Демьяне Бедном Асеев говорил не без почтения:
— Жил в Кремле. Хотел — ходил к Ленину, хотел — ходил к Сталину. Узнавал все из первых рук.
После этого он риторически воскликнул:
— А Сурков что?
У Николая Николаевича был интерес к вождям, но опасливый, риторический. Впрочем, было у него несколько автобиографических сказаний.
В 1941 году праздновали столетний юбилей Лермонтова. Председателем юбилейного комитета был К. Е. Ворошилов, заместителями — Асеев и О. Ю. Шмидт. Оба они тогда были в фаворе, в случае: Николай Николаевич даже временно исполнял что‑то вроде должности первого поэта земли русской — в промежутке между Маяковским и Твардовским.