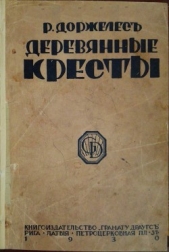Жизнь Никитина

Жизнь Никитина читать книгу онлайн
Владимир Александрович Кораблинов (1906—1989) известен читателям как патриот своего Воронежского края. Не случаен тот факт, что почти все написанное им – романы, повести, рассказы, стихи – обращено к событиям, произошедшим на воронежской земле. Однако это не узко краеведческая литература. События, описываемые в его произведениях, характерны для всей России, нашей великой Родины.
Романы «Жизнь Кольцова» и «Жизнь Никитина» также рассказывают о людях, которыми гордится каждый русский человек. Они – о жизни и вдохновенном творчестве замечательных народных поэтов, наших земляков А. В. Кольцова и И. С. Никитина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Стубли́шша! – оборачиваясь к Никитину, весело сказал ямщик, краснощекий молодой малый с чуть пробивающейся мочального цвета бородкой. – Стублишша, ваше благородие, тута поить будем…
Гремело ведро, скрипел колодезный журавль, ямщик то ласково, то строго разговаривал с лошадьми.
Недолгое время стояла благодатная тишина, уши отдыхали от грохота колес. Но вот, напоив лошадей, ямщик залез на козлы, крикнул разудало:
– Э-э, милые! – и, вздохнув, Иван Савич привалился в глубь сиденья, красным клетчатым фуляром вытер влажный лоб и снова под ровное дребезжание тарантаса поплыл, поплыл в смутную и таинственную безбрежность сновидений.
Женщины
Как при месяце кроток и тих
У тебя милый очерк лица…
Он поплыл, неожиданно окруженный бесплотными, легчайшими призраками очаровательных женщин.
В серебристом лунном свете, в зыбких тенях старого сада (где все – затушевано, все – расплывчато, лишь черная листва на фоне зеленоватого неба да лунные искорки, раскиданные по застойной воде неглубокого пруда), словно нарисованные на стекле, они появлялись, звали к себе, тихонько смеясь, исчезали и возникали вновь, маня.
Несколько дней позапрошлого лета, проведенные в усадьбе Вячеслава Иваныча Плотникова, землянского помещика, отпечатались в памяти домашним уютом низеньких комнат, тенистыми аллеями сада с песчаными дорожками, пестрыми от лунных пятен, нежным благоуханием влажных цветов и трав, пленительными, обещающими улыбками милых девушек.
И еще музыка там была. Очень много музыки – домашнее трио, квартеты, хоры, в которых, пусть иной раз скрипка фальшивила, рояль убегал резво от остальных инструментов, – все равно постоянно пребывало главное: очарованье.
Внезапно залетевшая с балкона ночная бабочка гасила свечу над пюпитром с нотами, и все мешалось, все вскакивали, пытались поймать огромную, звероподобно мохнатую бабочку… И в суматохе летели нотные тетради, смычки, опрокидывались стулья.
И чертыхался господин Шилов, сосед, отставной полковник, первая скрипка, потеряв в переполохе подвязанные гарусной ниткой очки, замечательные тем, что всю Крымскую кампанию прошли – и ничего, только правая дужка сломалась.
Иван Савич на таких музыкальных вечерах усаживался где-нибудь в самом затененном уголке гостиной и, замирая, как бы коченея от наслаждения, слушал наивные старинные мелодии Гайдна, Глюка, Рамо. Это были чудесные часы, когда проклятая семинарская застенчивость исчезала бесследно; когда, словно на белопенном гребне волны, Музыка уносила Ивана Савича – куда? в какие необыкновенные миры? – далеко от всех житейских тягот, туда, где не было ни грошовых расчетов, ни пьяных лабазников, ни господ, ни лакеев, а только изумительные звуки, в бездонной глубине которых томились, жили таинственной жизнью еще не написанные, не сказанные, не пропетые стихи.
Лето было благодатное, с частыми теплыми дождями, с крутыми сияющими радугами.
Легчайшие шумы дохнувшего на мокрую листву ночного ветерка, тонких струек дождевой воды, стекающей по водостокам в нарочно для этого поставленные тазы и ведра, проникали в распахнутую дверь балкона и не только не мешали музыке, а, наоборот, удивительно созвучно вливались в нее, а временами даже как бы помогали, то стушевав неприятное шипение шиловского смычка, то притушив фальшивую нотку под бойкими, излишне самоуверенными пальчиками прелестной Натальи Вячеславны.
И сладко, приятно было, слушая тоненький звон падающих капель, думать о том, что дождевая вода эта набирается именно для черноглазой мадемуазель Жюно, для плотниковских барышень, что этой водой они будут завтра, запершись на крючок, мыть свои чудесные, шелковистые волосы. И воображение рисовало обнаженные девичьи плечи, груди… такими преувеличенно-роскошными красками рисовало, какими может рисовать только воображение никогда не знавшего женщин тридцатипятилетнего, замкнутого, наделенного живым воображением мужчины.
Впрочем, это была сокровеннейшая тайна, такая же, как только что задуманный, вчерне набросанный стих, – да, да, как стих, не больше: целомудренность Ивана Савича, его понятие нравственности не позволяли ему в отношениях с женщинами идти дальше тайной мечты и бесплотного восторга. Он вечно в своих сердечных делах был святым Антонием: искушения разбивались о несокрушимую твердыню его целомудрия. Временами это делалось мучительно, борьба с самим собой никогда не бывала легкой, но он неизменно оставался победителем.
Само слово женщина в его мыслях всегда светилось прямо-таки религиозным венчиком святости, стояло рядом со словом богоматерь и было вознесено на высоту недосягаемую. Иван Савич был религиозен.
Другое дело – как сами знакомые ему женщины судили об этом вопросе. Они, кажется, не были склонны забираться на подобную высоту, держались ближе к грешной земле. Иван Савич был статен, хорош собою, они на него все заглядывались, начиная с двоюродной сестры, с Аннушки, – дома, на постоялом, и кончая мадемуазель Плотниковой – беспечной, прехорошенькой и препустенькой Натальей Вячеславной и ее компаньонкой Матильдой Ивановной Жюно.
На улице, в театре, в магазине женщины обволакивали Ивана Савича выразительными взглядами, поощряли легчайшими, кружащими голову прикосновениями, улыбками, вздохами, опрысканными дорогими духами записками.
В городе было легче противостоять прелестным искусительницам: бестолковые будни в доме на Кирочной, раздражающие пьяные выходки отца, кухаркины причитанья и брань с постояльцами; торговая сутолока в магазине, стычки с милейшим Чиадровым, возня со счетами и денежными расчетами. И наконец, вечера, когда в задней комнатке магазина или на Кирочной собирались немногочисленные друзья – Придорогин, де-Пуле, Милошевич, Ардальон, кое-кто из «Ведомостей», кое-кто из гимназии – и с увлечением читали, спорили далеко за полночь, – все это решительно зачеркивало легкомысленные записочки, гасило в памяти улыбки, взгляды, прикосновенья.
Но стоило снова попасть в Дмитриевку, стоило, скинув пыльник, умывшись и переодевшись после пятичасовой тряски в тарантасе, войти в темноватую от сиреневых зарослей под окнами гостиную Вячеслава Иваныча, как начинался пахучий и нежный вихрь этих самых улыбок, вздохов, взглядов, восклицаний, кокетливых недомолвок, мимолетных прикосновений и – музыки, музыки, музыки…
И тут противостоять было трудно.
Наталья Вячеславна завладевала им первая. Она попросту совершенно бесцеремонно брала Ивана Савича под руку и уводила в сад, к пруду, месту укромному и поэтичному, и там часами болтала о пустяках – о прочитанном французском романе, о каком-нибудь Дюкре-Дюмениле, о губернаторском бале, о той же чудовищной мамзель Постране. Болтала, однако ж, не выпуская Иван Савичевой руки и даже крепко, крепче, чем следовало бы, прижимая ее к себе.
Матильда была несколько сдержаннее, но – боже мой! – как она умела обжигать поистине огненным взглядом, как вспыхивала до самого выреза на груди, как, садясь возле, словно ароматным облаком накрывала подолом кринолина высоко и остро торчащие над приземистым пуфом Иван Савичевы колени!
И еще целый рой щебечущих девиц – гостей, соседок, родственниц – с романсами, акварельными виньетками, альбомчиками в плюшевых переплетах, девиц, умоляющих написать хоть строчку на память.
И все это улыбалось, кокетничало, благоухало, пело, дразнило воображение и как будто бы старалось взять приступом никитинскую твердыню.
Но, милые девицы, это не так-то легко было сделать!
Неуклюж, некавалерствен, тяжелодум был Иван Савич. Наталья Вячеславна, играя во влюбленность, ждала с любопытством – когда же, когда наконец он, воспользовавшись темнотой в укромном уголку гостиной или сада, робко коснется рукой ее талии… Она была уверена, что коснется обязательно, иначе не могло быть.
Но Иван Савич был сдержан, уступая просьбам, читал стихи или говорил… о боже! о чем он мог говорить с хорошенькой девушкой! О предстоящей реформе, о бедственном положении крепостного мужика, о дурной системе народного образования, о железных дорогах! К талии же Натальи Вячеславны не только не прикасался, но, наоборот, отодвигался всякий раз и норовил прямо-таки влипнуть в угол дивана, когда его собеседница как бы невзначай, как бы в порыве спора кончиками пальцев дотрагивалась до жесткого, каляного рукава его черного сюртука.