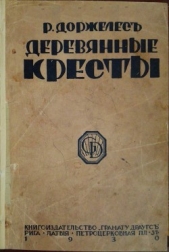Жизнь Никитина

Жизнь Никитина читать книгу онлайн
Владимир Александрович Кораблинов (1906—1989) известен читателям как патриот своего Воронежского края. Не случаен тот факт, что почти все написанное им – романы, повести, рассказы, стихи – обращено к событиям, произошедшим на воронежской земле. Однако это не узко краеведческая литература. События, описываемые в его произведениях, характерны для всей России, нашей великой Родины.
Романы «Жизнь Кольцова» и «Жизнь Никитина» также рассказывают о людях, которыми гордится каждый русский человек. Они – о жизни и вдохновенном творчестве замечательных народных поэтов, наших земляков А. В. Кольцова и И. С. Никитина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А Михаил Федорыч поехал проводить до заставы. И там распрощался, – влажной, слабой рукой не пожал Никитину руку, а скорее просто прикоснулся к ней, и уехал. И нету его, и Ардальона нету, и Воронеж скрылся давно. И версты полосаты, перелески, поля мелькают по обе стороны тарантаса. И уж, казалось бы, пора перестать думать о воронежском – ан нет, все думается, все думается…
И прежде всего о том думается, ради чего затеяно это длинное и, безусловно, беспокойное путешествие, шутка ль сказать – в Москву, в Питер!
Прежде всего – о ней, о книжной лавке думается, не идут из головы хлопотливые торговые дела. «Кулак, кулак! – хватаясь за седые кудри, в отчаянии восклицал, бывало, Придорогин, ангельская душа. – Весь ушел дан лез афер! [13] Погряз в барышах, расчетах, в грязных рублях! А где же поэзия? Где?»
Ах, милый друг Иван Алексеич, пятидесятилетнее дитя, с его запальчивыми, сумбурными речами о вольности, об уничтожении тиранства, о просвещении! С его забавной выдумкой стращать и дразнить губернские власти рукописными копиями лондонского «Колокола», куда переписчик вставлял уже от себя весьма и весьма злоязычные статейки о некиих темных делишках воронежских администраторов – губернатора, полицмейстера, прокурора. По городу эти списки ходили зачитанные до ветхости. «Колокол» звонил иногда предерзко: был случай, когда его высокопревосходительство начальник губернии обнаружил сию непотребную тетрадку в своем собственном портфеле!
Игра зашла слишком далеко. В знаменитом Третьем отделении канцелярии его величества было заведено «Дело № 109». О воронежском купце Иване Алексееве Придорогине.
Бог знает, чем кончил бы этот седовласый младенец, если б смерть не постучалась в его двери на несколько, может быть, дней раньше, чем это собирались сделать воронежские жандармы.
Царство тебе небесное, милый Иван Алексеич!
Но как же, дорогой, ты был неправ, жестоко обрушивая свои громы и молнии на скромную книжную лавку! Что толку в пламенных речах о просвещении народном, коли самому не идти к народу с зажженным светочем!
Барыши…
Да как же можно в торговом-то деле без барышей? На какие ж, извините, шиши тогда и оборачиваться? Судите сами: подписчиков на чтение уже за сотню переваливает да сколько так приходят, без подписки! Тут надобны постоянно свежие журналы, литературные новинки, ведь это денег стоит, это, подобно манне небесной, с неба не упадет.
Чем корить барышами, лучше б, засучив рукава, принимались бы, друзья, за дело, действительно реальное дело просвещения.
Как, к слову сказать, нужен был толковый, грамотный приказчик, а небось никто палец о палец не стукнул, чтоб помочь найти его здесь, в Воронеже. И вышло, что пришлось нанять присланного из Петербурга и рекомендованного господином Сеньковским какого-то проходимца, хвастуна, милейшего Чиадрова, который мнит о себе выше некуда, а дела не знает нисколько.
Двести сорок рубликов – жалованье мосье Чиадрову – это ли не на ветер выброшенные деньги, согласитесь, господа!
И сделайте одолжение, не корите барышами, лучше взгляните, какой духовной сивухой одурманивается наша публика: Поль де Кок, булгаринская «Пчелка», глотатели шпаг, всяческие Бартоломео Боско, зверообразная Джулия Пострана… На эту заморскую безголосую певичку, на это волосатое чудовище с каким сладострастием глазеют наши милые воронежцы! Вот вам цветы просвещения. Пора, пора, наконец, от прекрасных слов перейти к делу. Что?
Да, вот именно: я говорю о книжной лавке. О ней-с.
Чахлые от зноя чернобыльники, придонские холмы в колеблющемся мареве, ямщик поет.
И Воронеж уже бог знает где остался, а мысли – все о нем, все о нем.
Ветер посвистывает в ушах – все о нем.
Копыт перестук, дребезжанье колес, ямщицкая хмельная песенка – все о нем. Все о нем…
Да уж и укачивает же дальняя езда на тарантасе! Иван Савич задремал. «На легких крыльях сна вознесся, – как выразился бы Нестор Васильич Кукольник, – в волшебный мир волшебных грез». Но это он, разумеется, о себе этак бы выразился; разумеется, после изрядного возлияния на Бахусов алтарь.
С Иваном же Савичем ничего подобного не случилось, никаких крыльев: как был в тарантасе, так в «волшебный мир» на нем же и въехал, дребезжа и пыля.
Да, впрочем, и мир-то был никак не волшебный, а все тот же – невзрачный, серый, воронежский: счета по магазину, назойливый покупатель с крашеными бакенбардами и поддельным зубом; лужа на Поповом рынке возле дома, где квартировал де-Пуле; жандарм с пакетом от его высокопревосходительства нового губернатора, давнего знакомца, графа Дмитрия Николаича Толстого; кухарка Маланья, опять тот же, надоевший, как больной зуб, Чиадров, аптекарские склянки с какими-то зелеными и желтыми декохтами, пьяный батенька, ревущая под окном рыжая корова, телеги на постоялом, унылые черные шары на каланче Дворянской части… Наконец, сам граф Дмитрий Николаич с розовым, чисто вымытым перстом – строгим и даже как бы осуждающим:
– Что ж это вы, мон шер? Нехорошо, нехорошо… Некоторые лица ваше стихотворение на свой счет принимают-с, знаете ли…
– Помилуйте, граф, кого же это может касаться?
– Да вот, представьте себе!
Стихи были читаны публично в великолепной зале кадетского корпуса. И, конечно, не без адреса. И уж, конечно, кое-кого из краснобаев-либералов задели за живое.
Да хоть того же Спасовского взять: нынешний редактор «Ведомостей», графский любимчик, протеже, в дрянном журнальчике, в копеечном «Развлечении» бичует, изволите видеть, наши провинциальные нравы, а сам попался на фальшивом завещании, шкатулку украл у родственника, племянницу ограбил… боже ты мой! Грязь какая, какая гадость!
Так, значит, господин Спасовский на свой счет принял? Очень рад, очень рад, превосходно! Стрела попала в цель.
Грозит розовый перст. Его сиятельство, кажется, изволит хмурить брови? Гм… гм…
Вы, ваше сиятельство, напрасно все еще мните себя благодетелем, меценатом безвестного воронежского мещанина Никитина. Напрасно-с. Неужто вам в голову не приходило, что не тот нынче Никитин, каким был шесть лет назад. Не тот, ваше сиятельство, не тот!
Неужели вы все еще мните, граф, что он по-прежнему, по-холопски, счастлив вашей генеральской лаской, по-прежнему млеет от снисходительно протянутой вами руки, с которой вы даже белоснежную лайковую перчатку не потрудились снять… Сказать ли? Воронежскому мещанину Никитину стыдно – слышите ли? – стыдно вспоминать свои первые шаги на литературном поприще, когда вы, ваше сиятельство, соизволили представить его русской читающей публике. Краска заливает щеки – стоит лишь вспомнить лакейскую заметку Булгарина по поводу выхода в свет злополучной книжицы стихов какого-то воронежского дворника…
А проклятые экземпляры той же, вами изданной книжонки, с верноподданническими надписями, от моего имени преподнесенные обеим императрицам и наследнику!
И затем – высочайший рескрипт в ответ и августейший подарок – золотые часы.
И, главное, ощущение мерзкого, холопского восторга (чего одна лишь записка к Николаю Иванычу стоит: «Ура! Ура! Числа не помню»), восторга, охватившего бедного сочинителя… Ощущенье, точь-в-точь, вероятно, сходное с ощущеньем дворового пса, которого хозяин мимоходом ласково потрепал за уши…
Иван Савич даже застонал и приоткрыл глаза: пыль, пыль, пожелтевшая от зноя трава на обочинах; уныло горбится ямщикова спина; блестящий, темный от пахучего пота, мерно, сильно шевелится круп буланой пристяжки. Нахохлившиеся кособокие избы тянутся вдоль дороги, жалкие, убогие, как нищие возле паперти. Ни деревца возле них, ни кустика. На голом месте жмутся робко друг к дружке, с затаенной ненавистью поглядывая на путников крошечными подслеповатыми оконцами, словно зияющие раны, выставляя напоказ дырявые крыши, обвалившиеся углы, разгороженные задворки.
Тарантас остановился у колодца с длинной долбленой колодой.