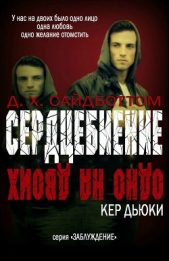Портреты современников

Портреты современников читать книгу онлайн
Поэт и журналист С. К. Маковский вспоминает знаменитых художников, музыкантов, поэтов начала 20-го века. (К.Маковский, Вл. Соловьев и Георг Брандес, А. Добролюбов, Шаляпин, Дягилев, И.Анненский, Вяч. Иванов, М.Волошин, Черубина де Габриак, Качалов, Мандельштам, А. Бенуа.)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тоска всё о том же: о том, что «тяжек жизни свет по рытвинам путей»; что любовь поэта «безлюбая — дрожит, как лошадь в мыле», а вся нежность ее — только «колдуньина маска»; что «черной весной» мутная изморозь льется на тление, а осень спрашивает: «А ты? когда же ты? — на медном языке истомы похоронной»; о том, что мир нездешний, «тот мир — лишь миг с его миражным раем», а здесь в миражной яви «лишь мертвый брезжит свет», и остается одно: «до конца всё видеть цепенея» и ждать, когда «распахнется дверь»…
Анненский говорил молодым писателям «Аполлона» и мне повторял не раз: «Первая задача поэта — выдумать себя». На этом парадоксе он настаивал, но сам-то выдумать себя никак не умел и вероятно поэтому даже сомневался как будто в собственной поэзии, говоря о ней условно и шутливо:
Выдумал! Разве Анненский мог что-нибудь выдумывать, когда каждое сказанное им слово поэзии — голос той Тоски, которую он писал с большой буквы?
«Иронистом» он называл себя особенно охотно, он чтил нелицемерно как своих наставников — верных рыцарей иронии, начиная с Аристофана и кончая Лафоргом (une eau de vie un peu trop forte, как говорил Анненский, цитируя Реми де Гурмона). Вот отчего так дорога была ему, филологу, специалисту по Эврипиду, ученику Виламовица, французская поэзия конца века, безбоязненно-скептическая и, часто, трагически-безбожная. Вот отчего примкнул он уже на склоне лет, не устрашась насмешек литературной улицы, к модернистам, объединившимся в «Аполлоне».
Русское поэтическое поколение девятисотых годов не водружало знамени скепсиса и безбожия (напротив — богоискательство преобладало), но это поколение было воспитано на европейских образцах «прекрасной формы», и это было дорого Анненскому-эстету, хоть он и почитал себя плохим слугой Аполлона, бога красоты и меры. Последнее обстоятельство приводило его даже в некое трогательное смущение: «Ведь я старый прислужник Диониса, насмешливый сатир (он ставил ударение на а), моя муза — менада, как бы не прогнали меня из храма Светозарного и Лученосного»… И тут же успокаивал себя тем, что эти боги — близкие родственники и поэтому, исповедуя одного, служишь и другому… Но его подстерегал третий — не бог земных созерцаний и не бог земного опьянения, а бог, пожирающий своих детей, — потусторонний лик его Анненский болезненно ощущал, хоть и отнекивался всячески от мистицизма, он — иронист!
Но русский модернизм той поры привлек Анненского не только культом красоты и дерзостями стиля, литературными изощрениями, экзотикой и символическими туманами. В этом модернизме было ведь и другое: отчужденность от жизни, презрение к «здравому смыслу», мифотворчество, игра ума, любующегося призраками, неприятие реализма. В бегстве от реальности Анненский пристал к «молодым», сделался «ментором» вместе с Вячеславом Ивановым в учрежденном при редакции «Аполлона» Обществе ревнителей художественного слова, эстетика стала для него спасительным щитом от мыслей отчаяния.
В самом деле, разве не на эстетике строил он хрупкую свою теорию мирооправдания? Чтобы не проклинать смерть, он вводил ее в круг художественных эмоций, в гамму одушевленных поэтической мечтой метафор. И смерть из «одуряющей ночи» обращалась в «белую радость небытия», в «одну из форм многообразной жизни», — ведь формами сознания жизни исчерпывается содержание; другого смысла, другой правды нет и быть не может. Художник, поэт, творя слово и всё, что оно пробуждает в душе, творит единственную ценность смертного — красоту иллюзии. Оттого и прекрасно, что невозможно: Невозможно — тоже с большой буквы, как Тоска.
В разговорах Анненский часто возвращался к этой философии эстетического нигилизма. «Мое я — только иллюзия, как всё остальное, отражение химер в зеркалах»… говорил он, и ему хотелось как-то примирить этим апофеозом метафоры-символа антиномию «двух недружных миров в человеке». «Нельзя оправдывать оба мира, — писал он в статье о «Гамлете», — и жить двумя жизнями зараз. Если тот лунный мир существует, то другой, солнечный, все эти Осрики и Полонии — лишь дьявольский обман и годится разве на то, чтобы его вышучивать и с ним играть»… Искусство, одно искусство, художественное преосуществление, сливает оба мира. И потому он во что бы то ни стало хотел быть эстетом и готов был даже запереться в башне из слоновой кости.
Был ли он им? Мне думается, что достаточно и поверхностного знакомства с его стихами, чтобы ответить отрицательно. Как ни прятался он за метафоры, называя это «любовью к жизни», ироническим своим «дионисийством», как ни доказывал, что лучше разделенной любви, лучше счастья вдвоем — грезить одному «когда чуть дымятся угли», что востократ прекраснее природы мечта о природе, и что надо лишь «выдумать себя», чтобы «стать Богом», — дух его требовал иного и ощущал иное. Он не сдавался из какого-то фантастического самолюбия, кощунствовал от избытка томления по чудесному, он не умел поверить в бытие «непостижное уму», но оно врывалось в его сердце, опрокидывало искусно воздвигнутые «миражи», заставляло плакать и ужасаться и невольно благоговеть, обращало иронию в жалкую гримасу, улыбку скептика в испуг тайновидца, неверие — в предчувствие. Умирали слова «упадая, как белый цвет», но Неизреченное стучалось в наглухо запертую «дверь часовщика», и притихала «стальная цикада», прислушиваясь к тому нечто, что боится постороннего слова или вспыхнувшей свечи, что живет «совсем по другому» в омутах трансцендентного молчания.
«Содержание нашего я не только зыбко, но и неопределимо, — говорит Анненский в очерке, посвященном Бальмонту, — и это делает людей, пристально его анализирующих, особенно если анализ их интуитивен, — так сказать, фатальными мистиками».
Я бы назвал «мистическим безбожием» это состояние духа, отрицающее себя во имя рассудка и вечно настороженного к мирам иным, — если бы не боялся слишком резкого соседства этих слов. Но иначе, пожалуй, не скажешь. И как удивительно сочеталось в нем ощущение Тайны с рассудочным низведением духа человеческого на ступень имманентной призрачности и, вместе, с почти истерической чувствительностью и таким самоутверждающимся сознанием своего поруганного «я»!
Анненский был сентиментален. О, да — сентиментален и в том смысле, какой это слово имеет на французском языке — un sentimental, человек сердца, глубокого чувства, — но также отчасти и в смысле, какое оно приобрело по-русски: он был чувствителен, разнеженно-жалостлив, вечно прислушивался к себе, пытал себя и жалел себя и — через себя — всю жизнь, всё творение. Жалостливость его распространялась и на людей, и на природу, и на окружающие предметы, потому что для него и природа, и люди, и всякий неодушевленный предмет, — всё попадавшее в поле его восприятия, становилось им самим: кроме этого пассивного «я» ничего и не было, всё отожествлялось с ним в процессе сознания. Это и очаровывало его эстетически (миражи, музыка, самозабвение, красота), и ужасало: во всём сущем отраженная душа обращается в призрак, в бредовую материализацию и в конечную пустоту несуществования. От этой жалости к себе, к своему всесущему и несуществующему «я» — и какая-то размягченная нежность подчас, и характерный для Анненского негодующий протест, доходящий до циничного всеотрицания. Жалея себя, он не хочет быть жалким, хочет быть «дерзким» и бесстрашно «срывать одежды» с так называемой действительности, когда не может преодолеть ее мечтою, заслонить иллюзией вечной красоты. Рассудочное отрицание Бога Живого сплошь да рядом обращает эту мечтательность Анненского (теперь можно было бы сказать — его сенсуальный экзистенционализм) в изуверскую дезинтеграцию бедной своей, замученной Психеи.