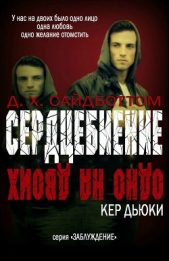Портреты современников

Портреты современников читать книгу онлайн
Поэт и журналист С. К. Маковский вспоминает знаменитых художников, музыкантов, поэтов начала 20-го века. (К.Маковский, Вл. Соловьев и Георг Брандес, А. Добролюбов, Шаляпин, Дягилев, И.Анненский, Вяч. Иванов, М.Волошин, Черубина де Габриак, Качалов, Мандельштам, А. Бенуа.)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Барин, аристократ, с презрением относился он к толпе, к людям, но всегда хотел дарить этим людям Америки, вести их за собой и заставлять их любить то, что он любит. Дягилев умел любить с юношеским увлечением то картину, то симфонию, то пластическое движение, и умел растроганно умиляться и плакать настоящими крупными слезами перед созданием искусства, но в то же время, открывая для себя и для других новые миры, он не верил до конца в них и никогда не испытывал полного удовлетворения, — не потому ли всегда так грустно, и чем дальше, тем грустнее, улыбались глаза Дягилева?.. Ни одно дело не поглощало его всецело — в душе его всегда оставалось какое-то пустое место, какая-то душевная пустыня, самое страшное в жизни — скука. Отсюда и периодические припадки тоски, отсюда и всевозможные увлечения — страсти — необходимость заполнить пустыню»…
В заключение — еще цитата из Лифаря:
«В жизни он был туристом… Почувствовал ли Сергей Павлович, что в его жизни не всё было ладно, что в своих чувствах он не руководился никаким высшим началом, что в них не было вложено никакого усилия над собой, над своим эгоистическим усилием, — и в нем впервые проснулось раскаяние, которого он не знал в жизни?».
Кому много дано, с того много и спросится. Сергею Павловичу Дягилеву, при всей вулканической воле его и уме, открытом всем соблазнам красоты, недоставало той мудрости сердца, которая защищает от одиночества перед лицом смерти… Но верно и другое: обладай Сергей Павлович этой мудростью, кто знает? — создал ли бы он то. что создал.
Иннокентий Анненский
Известно, что мы плохо ценим и бережем наших «больших людей», — как часто уходят они почти незаметно и только позже, когда их нет уже, спохватившись, мы сплетаем венки на траурных годовщинах…
Одним из таких неузнанных при жизни был Иннокентий Федорович Анненский. В области литературной он работал, можно сказать, в безвестности и лишь перед самой смертью обратил на себя внимание, примкнув к кружку молодых поэтов, зачинателей журнала, обязанного главным образом ему, Анненскому, первыми своими удачами…
Зато и не пощадила его литературная чернь… Не одна чернь! Перед кем-кем, а перед Анненским повинно всё русское общество, — ведь современники, за исключением немногих друзей, мало что не оценили его, не увлеклись им в эти дни его позднего, так много сулившего творческого подъема, но, обидев грубым непониманием, подтолкнули в могилу.
Когда появилась в «Аполлоне» статья Анненского о нескольких избранных им русских поэтах, под заглавием «Они», не только набросились на него газетные борзописцы, упрекая меня, как редактора, за то, что я дал место в журнале «жалким упражнениям гимназиста старшего возраста» (это он-то, пятидесятитрехлетний маститый ученый, переводчик Эврипида и автор лирических трагедий, мудрец «Книг отражений» и «Тихих песен»!), — забрюзжал кое-кто и из разобранных им поэтов, обидясь на парадоксальный блеск его характеристик. Пришлось даже напечатать его «письмо в редакцию» в свое оправдание. Анненский ошеломил, испугал, раздражил и «толпу непосвященную», и балованных писателей, ждавших на страницах «Аполлона» одного фимиама. Метафорическая изысканность Анненского была принята за вызов и аффектацию, смелость оборотов речи — за легкомысленное щегольство…
Анненского мучило это непонимание. Критик благожелательный, миролюбивый, несмотря на свою «иронию», был задет за живое, нервничал, терзал себя, искал опоры, одинокий и не умеющий «приспособиться» к ходячим мнениям, — можно с уверенностью сказать, что волнение этих нескольких недель ускорили ход сердечной болезни, которой он страдал давно.
Даже наиболее просвещенный читатель долго оставался чужд и его стихам, и сущности его нео-эллинизма, и критическому ясновидению. Он умер вот уже около полувека тому назад, но многие ли и за эти годы, несмотря на то, что Анненский признан передовой критикой большим поэтом, многие ли прислушались к нему, почувствовали его как выразителя целой эпохи, мятущейся эпохи нашей на рубеже двух миров — старой интеллигентской России, досказывавшей свое последнее слово с Чеховым, и новой, родившейся в конце века, — той России, которая началась, зараженная сумеречным Западом, «декадентством» в девяностые годы, пережила затем бесчисленные «измы» европейских мод и погибла в бреду революционного всесожженья…
В этом смысле Анненский трагическая фигура. Поэт глубоких духовных разладов, мыслитель осужденный на глухоту современников — он трагичен, как жертва исторической судьбы. Принадлежа к двум поколениям, к старшему возрастом и бытовыми навыками, к младшему — духовной изощренностью, Анненский как бы совмещал в себе итоги русской культуры, пропитавшейся в начале двадцатого века тревогой противоречивых дерзаний и неутолимой мечтательности. Филолог-эллинист по специальности, по профессии педагог (директор Царскосельской гимназии, а затем инспектор Петербургского учебного округа), всезнающий философ, собеседник обворожительный в кругу друзей — наедине с собой он был поэтом, обрекшим себя пытке богоборческого отрицания и призраку смерти, которую ждал каждую минуту, не веря в потусторонний мир и терзаясь своим неверием… Явление сложное и в этой сложности многозначительное, особенно для нас, свидетелей национального светопреставления, — личность, одаренная свыше меры, и писательская совесть, вкусившая от всех отрав европейского «конца века» и, вместе с тем, столь русская! Сродни Гоголю, Лермонтову, Тютчеву, Достоевскому в томлении своем по чуду…
Воспоминания мои об Иннокентии Федоровиче относятся к году для меня знаменательному, 1909-му, когда начался «Аполлон». Первая книжка вышла в конце октября, с Анненским я познакомился в марте, а скончался он 30 ноября того же года. Эти восемь месяцев общения с Иннокентием Федоровичем и сотрудничества с ним, месяцы общей работы над объединением писателей, художников, музыкантов, и долгие вечера за чайным столом в Царском Селе, где жил Анненский с семьей, скромно, старомодно, по-провинциальному, — всё это время «родовых мук» журнала, судьбою которого он горячо интересовался, связало меня с ним одною из тех быстросозревающих дружб, о которых сердце помнит с великой благодарностью.
Он был весь неповторим и пленителен. Таких очарователей ума — не подберу другого определения — я не встречал и, вероятно, уж не встречу. Как мыслитель на редкость общительный, он обладал высшим даром общения: умел говорить и слушать одинаково чутко. Не будучи красноречив в обычном, «ораторском», смысле, он достигал, если можно так сказать, полноречия необычайного. Слово его было непосредственно-остро и, однако, заранее обдуманно и взвешено: вскрывало не процесс мышления, а образные итоги мысли. Самое неожиданное замечание — да еще облеченное в шутливую форму (вкус «ирониста», каким он себя упорно называл, удерживал его от серьезничания, хотя бы и по серьезнейшему поводу) — возникало из глубины мироощущения. Мысль его звучала, как хорошая музыка: любая тема обращалась в блестящую вариацию изысканным «контрапунктом метафор» и самым слуховым подбором слов. Вы никогда не знали, задавая вопрос, что он скажет, но знали наперед, что сказанное будет ново и ценно, отметит грань, от других скрытую, и в то же время отразит загадочную сущность его, Анненского.
Проф. Ф. Ф. Зелинский в аполлоновском некрологе Анненского замечает: «Мало сказать, что он был тонким и чутким стилистом: он был стилистом именно произносимого, а не читаемого слова, он заботился о тщательном подборе выражений не только со стороны смысла, но и со стороны звука».
Высокий, сухой, он держался необыкновенно прямо (точно «аршин проглотил»). Прямизна зависела отчасти от недостатка шейных позвонков, не позволявшего ему свободно вращать головой. Будто припаянная к шее она не сгибалась, и это сказывалось в движениях: в манере ходить прямо и твердо, садиться на вытяжку, поджав ноги, и оборачиваться к собеседнику всем корпусом, что на людей, мало его знавших, производило впечатление какой-то начальнической позы. Черты лица и весь бытовой облик подчеркивали этот недостаток гибкости. Он постоянно носил сюртук, черный шелковый галстук был завязан по-старомодному широким, двойным, «дипломатическим» бантом. Очень высокие воротнички подпирали подбородок с намеком на колючую бороду, и усы были подстриженные, прямо торчавшие над припухлым, капризным ртом. С некоторой надменностью заострялся прямой, хотя и по-русски неправильный нос; глубоко сидевшие глаза стального цвета смотрели пристально, не меняя направления; на прекрасно очерченный прямой лоб свисала густая прядь темных волос с проседью. Вид бодрый, подтянутый. Но неестественный румянец и одутловатость щек (признак сердечной болезни) придавали лицу оттенок старческой усталости, — минутами, несмотря на моложавость и даже молодцеватость фигуры, он казался гораздо дряхлее своих пятидесяти трех лет.