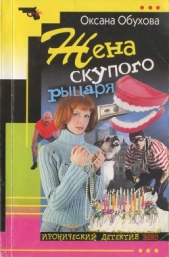За полвека. Воспоминания

За полвека. Воспоминания читать книгу онлайн
Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), создатель русского слова `интеллигент`, автор популярнейших романов: `Дельцы`, `Китай-город`, `Василий Теркин` и многих других, был `европеец не только по манерам, привычкам, образованности и близкому знакомству с заграничной жизнью, но европеец в лучшем смысле слова, служивший всю жизнь высшим идеалам общечеловеческой культуры, без национальной, племенной и религиозной исключительности. Вдумчивая отзывчивость на злобу дня... требует большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки... русских людей у себя и за границей изображены им с занимательной точностью и подробностями`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Хоть бы они пили, что ли? Ничего-то они не умеют играть как надо. Разве одних только д… да и то не веселых, а скучных, немецких!
Разумеется, эти «разносы» надо оставить на его ответственности.
Кроме Снетковой, в труппе был такой талант, как Линская, не уступавшая актрисам на бытовые роли и в московской труппе, и несколько хороших полезностей.
А мужской персонал стоял в общем довольно высоко. Еще действовал такой прекрасный актер, как старик И.И.Сосницкий, создавший два лица из нашего образцового театра: городничего и Репетилова.
Он был актер «старой» школы, но какой? Не ходульной, а тонкой, правдивой, какая нужна для высокой комедии. Когда-то первый любовник в светских ролях, Сосницкий служил даже моделью для петербургских фешенеблей, а потом перешел на крупные роли в комедии и мог с полным правом считаться конкурентом М.С.Щепкина, своего старшего соратника по сцене.
Только что сошел в преждевременную могилу А.Е.Мартынов, и заменить его было слишком трудно: такие дарования родятся один — два на целое столетие. Смерть его была тем прискорбнее, что он только что со второй половины 50-х годов стал во весь рост и создал несколько сильных, уже драматических лиц в пьесах Чернышева, в драме По-техина «Чужое добро впрок не идет» и, наконец, явился Тихоном Кабановым в «Грозе».
Обед, данный ему петербургскими литераторами незадолго до его смерти, было, кажется, первое чествование в таком роде. На нем впервые сказалась живая связь писательского творчества с творчеством сценического художника.
Его ближайший сверстник и соперник по месту, занимаемому в труппе и в симпатиях публики, В.В.Самойлов, как раз ко времени смерти Мартынова и к 60-м годам окончательно перешел на серьезный репертуар и стал «посягать» даже на создание таких лиц, как Шейлок и король Лир. А еще за четыре года до того я, проезжая Петербургом (из Дерпта), видел его в водевиле «Анютины глазки и барская спесь», где он играл роль русского «пейзана» в тогдашнем вкусе и пел куплеты.
Замечательно, что он ни тогда, ни позднее не связал своего имени ни с Грибоедовым, ни с Гоголем и только гораздо позднее стал появляться в «Ревизоре» — в маленькой роли Растаковского. Островский ему сразу не удался. Его Любим Торцов был найден деланной фигурой. Самойлова упрекали — особенно поклонники Садовского — в том, что он играл это лицо слишком по-своему, без всякого знания купеческого быта, и даже позволял себе к возгласу Торцова: «Изверги естества» — прибавлять слово «анафема» и при этом щелкать пальцами.
Самойлов не был коренным русаком. Это семейство, как известно теперь доподлинно, еврейской крови. Он был по своему происхождению и воспитанию слишком петербургский человек, пошедший в певцы из горных инженеров после какого-то публичного оскорбления. Дилетантский характер лег с самого начала на его артистическую карьеру. Но так как он был очень талантлив и способен на чрезвычайно разнообразную игру, то с годами он и выработал из себя не только ловкого, но и замечательного исполнителя, особенно в несильной драме и комедии.
Славолюбие у него было громадное, и он, подчиняясь тогдашним новым литературным вкусам, стал «посягать» на Шекспира. Эти опыты подняли его престиж. В труппе он занимал исключительное место, как бы «вне конкурса» и выше всяких правил и обязанностей, был на «ты» с Федоровым, называл его «Паша», сделался — отчасти от отца, а больше от удачной игры — домовладельцем, членом дорогих клубов, где вел крупную игру, умел обставлять себя эффектно, не бросал своего любительства, как рисовальщик и даже живописец, почему и отличался всегда своей гримировкой, для которой готовил рисунки.
Самые строгие его судьи были москвичи, особенно Аполлон Григорьев, тогда уже действовавший в Петербурге как театральный критик, а также и актеры, начиная с Садовского.
Они все считали его более «ловким» и «штукарем», чем искренним и вдохновенным артистом. Но про него нельзя было сказать, что он лишен внутреннего чувства. Он мог растрогать даже в такой роли, как муж-чиновник, от которого уходит жена, в комедии Чернышева «Историческая жизнь» и в сцене пробуждения Лира на руках своей дочери Корделии; да и сцену бури он вел художественно, тонко, правдиво, не впадая никогда в декламацию. Он был несомненный реалист, не сбившийся с пути в каратыгинское время, сознательно стоявший за правду и естественность, но слишком иногда виртуозный, недостаточно развитый литературно, а главное, ставивший свое актерское «я» выше всего на свете.
Таких типов теперь я уже не знаю и среди самых известных «первых сюжетов» столиц и провинции.
Обе сестры его Вера и Надежда уже покинули сцену до зимы 1860–1861 года. И это была огромная потеря; особенно уход Веры Васильевны.
Более прямым конкурентом и соперником Самойлова считался А.Максимов — тоже сначала водевильный актер, а тогда уже на разных амплуа: и светских и трагических; так и он выступал в «Короле Лире», в роли Эдмонда. Он верил в то, что он сильный драматический актер, а в сущности был очень тонкий комик на фатовское амплуа, чему помогали его сухая, длинная фигура и испитое чахоточное лицо, и глухой голос в нос, и странная дикция.
Он вскоре умер жертвой, как и Мартынов, общерусского артистического недуга — закоренелого алкоголизма.
В труппе почетное место занимали и два сверстника Василия Каратыгина, его брат Петр Андреевич и П.И.Григорьев, оба плодовитые драматурги, авторы бесчисленных оригинальных и переводных пьес, очень популярные в Петербурге личности, не без литературного образования, один остряк и каламбурист, другой большой говорун.
С Каратыгиным я познакомился уже в следующую зиму, когда ставил «Ребенка», а Григорьева стал встречать в книжном магазине Печаткина. Тогда он уже оселся на благородных отцах, играл всегда Фамусова — довольно казенно, изображал всяких генералов, штатских чиновников, отставных военных. Он отличался «запойным» незнанием ролей, а если ему приходилось начинать пьесу по поднятии занавеса, он сначала вынимал табакерку, нюхал и устремлял взгляд на суфлерскую будку, дожидаясь, чтобы ему «подали реплику».
Еще не стариком застал я в труппе и Леонидова, каратыгинского «выученика», которого видел в Москве в 1853 году в «Русской свадьбе». Он оставался все таким же «трагиком» и перед тем, что называется, «осрамился» в роли Отелло. П.И.Вейнберг, переводчик, ставил его сам и часто представлял мне в лицах — как играл Леонидов и что он выделывал в последнем акте.
То, в чем он тогда выступал, уже не давало ему повода пускать такие неистовые возгласы и жесты. Он состоял на амплуа немолодых мужей (например, в драме Дьяченко «Жертва за жертву») и мог быть даже весьма недурен в роли атамана «Свата Фаддеича» в пьесе Чаева.
Лично я познакомился с ним впервые на каком-то масленичном пикнике по подписке в заведении Излера. Он оказался добродушным малым, не без начитанности, с высокими идеалами по части театра и литературы. Как товарища — его любили. Для меня он был типичным представителем николаевской эпохи, когда известные ученики Театрального училища выходили оттуда с искренней любовью к «просвещению» и сами себя развивали впоследствии.
Самой интересной для меня силой труппы явился в тот сезон только что приглашенный из провинции на бытовое амплуа в комедии и драме Павел Васильев, меньшой брат Сергея — московского.
Для меня он не был совсем новым лицом. В Нижнем на ярмарке я, дерптским студентом, уже видал его; но в памяти моей остались больше его коротенькая фигура и пухлое лицо с маленьким носом, чем то, в чем я его видел.
В Петербурге появление П.Васильева совпало с постановкой после долгого запрета первой большой комедии Островского «Свои люди — сочтемся!»
Я тогда еще не видал Садовского в Подхалюзине (мне привелось видеть его в этой роли в Петербурге же, уже позднее), и мне не с кем было сравнивать Васильева.
Сейчас же чуялось в нем сильное и своеобразное дарование при невыгодных внешних средствах: малый рост, короткая фигура, некрасивость пухлого облика и голос хриповатый и, как и у брата его Сергея, в нос.