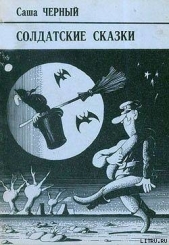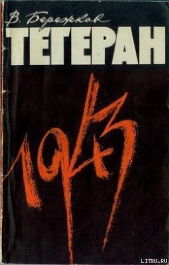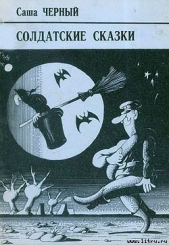Чёрный о красных: 44 года в Советском Союзе (ЛП)

Чёрный о красных: 44 года в Советском Союзе (ЛП) читать книгу онлайн
В эпоху индустриализации Советский Союз привлекал иностранных специалистов со всего мира. Одним из них стал молодой чернокожий американец Роберт Робинсон, приехавший летом 1930 г. с завода Форда на Сталинградский тракторный — работать и обучать советских рабочих. СССР тогда предлагал зарплаты вдвое больше, чем можно было рассчитывать получить в охваченных Великой депрессией США.
За свой добросовестный труд и инновационные достижения товарищ Робинсон — беспартийный чернокожий американский гражданин и глубоко верующий человек — в 1934 г. был избран в депутаты Моссовета, не зная, чем это для него обернется. Разделив судьбу миллионов рабочих СССР, Роберт Робинсон пережил сталинские чистки, Великую Отечественную войну, вездесущий надзор КГБ и в полной мере хлебнул прелестей советской действительности, в том числе «несуществующего» в Советском Союзе бытового расизма.
Вырваться из СССР Робинсону удалось лишь 44 года спустя — в 1974 г., в возрасте 67 лет.
Из него так и не смогли сделать коммуниста: мешала твердая вера в Бога, она же помогла ему остаться отстраненным, трезвым, пусть иногда и наивным, наблюдателем огромного отрезка нашей повседневной жизни — от Сталина до Брежнева и Горбачева.
Книга производства Кузницы книг InterWorld'a.
https://vk.com/bookforge — Следите за новинками!
https://www.facebook.com/pages/Кузница-книг-InterWorlda/816942508355261?ref=aymt_homepage_panel — группа Кузницы книг в Facebook.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этот истощенный, с запавшими щеками человек, плохо одетый, в давно нечищеных сапогах, странным образом кого-то мне напомнил. Начальник токарного участка удовлетворил мое любопытство: заглянув в книгу учета, назвал фамилию новичка — «Д. Богатов».
«Кто-кто?» — переспросил я, не поверив своим ушам. Пришлось ему повторить: «Богатов». Как бы ни хотелось мне поговорить с этим рабочим, исчезнувшим из нашего цеха в 1936 году, я понимал, что, если я подойду к нему со своими расспросами, это будет выглядеть подозрительно. Соблюдая осторожность, потихоньку, эпизод за эпизодом, я воссоздал для себя его историю. Из обрывков разговоров с Богатовым я узнал, что после ареста (как выяснилось, за то, что он неодобрительно отозвался о нормировщике) его привезли в Лефортовскую тюрьму. После трех дней постоянных допросов приговорили к десяти годам исправительных лагерей и в переполненном товарном вагоне отправили в Сибирь.
«Всю дорогу до лагеря, особенно по ночам, — рассказывал мне Богатов, — я думал о своем положении и не мог понять, за что со мной так поступили. Кто знает, вернусь ли когда-нибудь домой, увижу ли мать и близких.
И вот однажды, после бесконечных размышлений, я вдруг вспомнил о своей ссоре с нормировщиком за два дня до ареста, и у меня словно что-то оборвалось внутри. Внутренний голос спрашивал: «Помнишь, что ты тогда сказал Герасимову? Помнишь, ты сказал ему, что такие, как он, и делают нашу жизнь невыносимой? И в этот момент я понял, что именно Герасимов донес на меня в Особый отдел завода, сдал в НКВД».
Рассказ о своих злоключениях Богатов продолжил несколько недель спустя. «В первом лагере я работал на лесоповале. От каждого зэка требовали выполнения нормы — столько-то кубометров леса, а тем, кто не мог ее выполнить, паек снижали. Кормили черным хлебом и баландой. Наверное, мне повезло, потому что однажды — это было уже на пятый год заключения — я увидел на стене барака объявление: «Требуется квалифицированный инструментальщик». Пошел к коменданту, и тот направил меня на лесопилку в шести километрах от лагеря. Там я точил детали, чинил изношенное оборудование: сначала работал один, а потом мне на подмогу прислали двух зэков, которых я со временем обучил работе на станках.
Прошло еще полгода. Как-то ночью мне долго не давали заснуть мысли о матери. Сильно стучало сердце, и я снова и снова повторял про себя: «А что если пойти к коменданту и попросить разрешения написать матери?» Утром проснулся с этой мыслью. Набрался смелости и отправился прямиком к коменданту. Тот поздоровался, похвалил меня за работу и спросил, зачем я пришел. «Пожалуйста, позвольте мне написать письмо в Москву моей старушке-матери», — сказал я. И знаешь, Робинсон, тут его словно подменили. Он помолчал с минуту и сказал уже другим тоном: «За ответом явишься через три дня».
Разрешение я получил, и через семь месяцев от матери пришел ответ. Я читал и перечитывал ее письмо — каждый раз со слезами на глазах. Несколько месяцев у меня было такое чувство, будто я заново родился. А через год свалился с высокой температурой. Оказалось — туберкулез».
«Как же тебе все-таки удалось выйти на свободу?» — рискнул спросить я Богатова. — «Помогли партийные друзья моей сестры», — ответил он кратко. И добавил: «Между нами говоря, мне стало известно, что по доносу Герасимова еще по крайней мере три человека были арестованы и отправлены в лагеря».
Когда я двадцать девять лет спустя уезжал из Советского Союза, нормировщик Герасимов все еще работал на заводе. От нескольких наших заводских я слышал, что они ждут подходящего случая, чтобы рассчитаться с доносчиком. Хотелось бы знать, удалось ли им это.
В конце августа, через месяц после возвращения Богатова, я решил воспользоваться путевкой, которой меня наградили за индикаторы. Я не был в отпуске больше четырех лет и естественно мечтал уехать из города на природу, отдохнуть душой. До войны отпуск в Крыму или на Кавказе был желанной передышкой от московских волнений и козней. Не то чтобы отпуск гарантировал кому бы то ни было отдых от недремлющего ока спецслужб. Сотрудники НКВД присматривали и за домами отдыха, в которых тоже были свои стукачи. Однако зелень деревьев, голубое небо и морской воздух делали жизнь более сносной.
Обычным людям полагалось 12 дней (плюс два воскресенья) отпуска, начальникам — 28 дней. Свой двенадцатидневный отпуск я должен был провести в доме отдыха в шестидесяти пяти километрах от Москвы. Первое, что я увидел, приехав туда, была длинная очередь на регистрацию, ничем не отличавшаяся от московских очередей. Милиционер чрезвычайно внимательно проверял документы каждого из вновь прибывших отдыхающих, поэтому двигалась она медленно. Наконец меня зарегистрировали, взяли у меня паспорт и регистрационный сбор (три рубля), после чего вручили специальную книжку, где был указан номер моей комнаты и стола в столовой. Там же перечислялись те предметы, которые я при желании мог взять напрокат: балалайка, аккордеон, шахматы или шашки, теннисная ракетка и мячик, книги, волейбольный мяч и сетка и еще какое-то спортивное оборудование. Всех приехавших отдыхающих развели по комнатам.
Одноместные комнаты были только в санаториях для советской элиты. В моем же доме отдыха лучшей считалась комната на двоих, которую мне не посчастливилось получить, поскольку ее следовало бронировать за день до приезда. Меня поселили в комнату на четверых, а отпускников, приехавших на несколько часов позже, расселили по комнатам на шесть и даже восемь человек. Число стульев в комнате было равно числу отдыхающих, и в каждой — независимо от ее размера — стоял один графин с водой и два перевернутых вверх дном стакана. В изголовье узких кроватей на крючках висело по два полотенца. На обоих этажах деревянного двухэтажного здания на 200 человек было по туалету и душевой. Горячую воду давали через день: утром мылись мужчины, вечером — женщины. В каждой комнате было по крайней мере одно окно. В нашей — два, с белыми занавесками. Горничных не было. Постельное белье выдавали на двенадцать дней.
На первом этаже была просторная гостиная, где легко могли расположиться человек сто или даже больше. Из гостиной дверь вела в библиотеку, которая работала два часа утром и два — вечером. В дождливые дни и прохладные вечера отдыхающие собирались в гостиной — играли в карты, шашки и шахматы или просто болтали. Иногда аккордеонист играл русские народные песни, и те, кто побойчее, танцевали. Было здесь и радио, но оно не работало.
Два самых важных человека в доме отдыха — это физрук и аккордеонист. Физруками обычно были женщины, прошедшие специальную подготовку в институтах. Они составляли распорядок дня, начинавшийся с пятнадцатиминутной утренней зарядки ровно в 7:45. Физзарядка была «по желанию», однако из боязни показаться отщепенцем и подвергнуться остракизму я каждое утро послушно ходил на нее. Завтрак подавали в 8:30 на первом этаже, в столовой, где было накрыто пятьдесят столов на четыре человека каждый. На столах стояли свежие цветы в вазах. Еда каждая утро была одна и та же: селедка, кусок черного хлеба, двадцать граммов масла, каша и стакан чая.
В первый день после завтрака наша физкультурница и аккордеонист повели нас на прогулку. Двадцать минут, пока мы шагали, аккордеонист играл советские песни, и все, во главе с физкультурницей, пели. Когда мы дошли до поляны, нас разбили на группы по 4–5 человек. Кто-то собирал грибы, кто-то ягоды. Несколько человек, закатав брюки, плескались в пруду. Желающим предложили поиграть в футбол.
В 12:45 раздался свисток физкультурницы. Это был сигнал к началу пятнадцатиминутной зарядки. Мы понаклонялись и поотжимались кто как мог, под музыку, а потом, с песнями, отправились в обратный путь. По прибытии нам дали десять минут на подготовку к обеду — одному из трех самых главных событий дня. Голодные военные годы выработали у многих людей одержимость едой. Это трудно было не заметить во время обеда. В столовой большинство отдыхающих глотали пищу жадно, словно дикари, нисколько не заботясь о правилах приличия. Ежедневно трое моих сотрапезников подвергали меня тяжелому испытанию. Они быстро поглощали свой обед, а поскольку я всегда ем медленно, то следующие десять-пятнадцать минут смотрели мне в рот. Я ел свой борщ, свои четыре ложки каши, восемьдесят пять граммов мяса. Я пил компот из сухофруктов. Все трое сидели, уставившись на меня. У одного изо рта текли слюни, и он глотал их, не сводя с меня глаз. Они не пропускали ни одного движения моей ложки — от тарелки ко рту и обратно к тарелке. Я чувствовал себя, словно в присутствии трех голодных хищников, которые только и ждут, чтобы наброситься на меня. В тех редких случаях, когда я оставлял что-то на тарелке и уходил, я слышал за спиной, как они спорили, чья очередь доедать. Иногда давали добавку, но не мясо и не компот. Единственное, что удавалось выпросить на кухне отдыхающим, — это дополнительная порция гречневой каши или картошки.