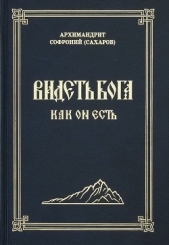Это мы, Господи, пред Тобою

Это мы, Господи, пред Тобою читать книгу онлайн
Воспоминания о репатриации казаков из Австрии в июне 1945 года, о лагере в Сибири. Автор — активная участница и одна из организаторов невооружённого сопротивления казаков против их насильственной выдачи англичанами в руки советских властей.
Евгения Борисовна Польская (в девичестве Меркулова) родилась в г. Ставрополе 21 апреля 1910 г. в семье терских казаков. Ее муж Леонид Николаевич Польский (1907 г.р.) был сыном Ставропольского священника Николая Дмитриевича Польского. В 1942 г. после немецкой оккупации супруги Польские в числе многих тысяч казачьих семей уходили на запад. В 1945 г. были насильно «репатриированы» обратно в СССР, как власовцы. И хотя в боевых действиях против «союзников» они не участвовали, Евгения Борисовна получила 7 лет лагерей, ее муж — 10. К концу жизни ею были написаны воспоминания «Это мы, Господи, пред Тобою…», в которых она описывает послевоенную трагедию казачества, а вместе с ним и всего русского народа, всей России… Скончалась Евгения Польская 18 января 1997 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но гораздо хуже: я понимаю, что и «безответная любовь» В. Г. требует продолжения логического. Я не девочка. «Может, отправим ее, Щербаков?» — спрашивают начальники, далекие от соображений надзора. Им «чудно», что роман может быть без физической близости. — «Тебе-то, поди, тяжело?» — «Я тогда умру, гражданин начальник», — отвечает В. Г. и плачет «скупою мужскою слезою». Отступаются. Девочки передают мне: «И. А. уже давно добился бы вашей отправки, да начальство за вас: очень уж вы хорошо играете», или… «хорошо себя ведете»…
Мне хорошо в этой зоне, так хорошо мне еще не было в заключении, так уютно. Я далека совсем от мата, животности. Я много читаю «новинок», мы говорим о книгах, даже стихи у меня начинают складываться, даже интриги вокруг меня как-то поднимают в собственных глазах, создают ощущение жизни, но чувствую: вокруг накипает грязца, в свое время не совсем мне понятная. Я начинаю утомляться от своего «романа». Конечно, у лагерной жизни свои законы, и Владимир Георгиевич тоже лагерный «волк», его «безответная любовь» — камуфляж чувств иных, он немного для меня приоткрылся, и как Хлестаков (пользуясь невежеством слушателей, хвастает, что «Штиль» Б. Белоцерковского — его пьеса). И нечестно мне мучить «безответностью» человека, который столько для меня делает, для моего покоя и радости! Но даже из благодарности не могу пойти на унижение «заначек» (так называется прятанье от надзора лагерных «супругов»).
Кроме того, как я понимаю по скупым письмам, у мужа был пересуд, он, видимо, получил «полную» катушку — 25 лет… Могу ли я быть спокойной, неверной, смею ли?! Письма его дышат любовью, хотя теперь редки. И зачем мне эта «чужая» любовь В. Г.? Так скорбит мое сердце, а мозг говорит: надо себя спасать. Так, как живу я сейчас, живут в заключении редкие люди… Словом, я на острие ножа…
«Ходит птичка весело по тропинке бедствий»… От Иванова узнает по секрету В. Г., очень с ним подружившийся после своего признания, соседняя с нами жензона закрывается и переводится в Анжеро-Судженск. Следовательно, не будет «юридического повода» держать в мужской зоне женсостав театра. Отправят всех женщин. Идиллия обрывается. Начинается бешеная борьба за женсостав театра. Разрешают оставить актрис только на время очередного спектакля «Чужой ребенок», в котором мне все-таки режиссер дал роль фельдшерицы. И. А. заявляет: «Будет фельдшер!». В. Г. мечется по начальствам, как большой печальный слон, пишет петиции. И. А. вдруг говорит: он оставит меня, если… если я извинюсь перед ним.
— В чем?! — Однако иду после жаркой мольбы Владимира Георгиевича к Ивану Адамовичу.
— Чем я вас обидела? — «Подумайте сами», — говорит он, спрятав глаза. Круто молча повернувшись, иду укладываться. К начальству бегут оба «волка» по культурной работе. Телефонные звонки в ИТК. За меня просит Иванов и д-р Ермак — оба «в курсе» нашего «романа». Приказано: оставить меня для «Чужого ребенка», который хочет посмотреть какое-то высшее начальство. Победа! «Слон» весело помахивает курносым хоботом.
На рассвете эшелон с женщинами отправляют. Мы с В. Г. радуемся, что-то там дальше будет, а пока этапа избежали. Для «Ребенка» оставили пока трех: Сонечку, Леночку, меня. Много сцен будет купировано. Потом нас увезут на «Зиминку» — это близко, там есть жензона, а на спектакли будут привозить сюда. Мой «слон» ликует, и мы усаживаемся с ним за простыни отчетов. Однако после того, как женщины уехали, а мы беспечно подбиваем колонки цифр, входит сам начлаг Алферов. Видимо, за эти полусутки И. А. не бездействовал.
— Собирайтесь! Все-таки не удалось вас отстоять! — Оставлены на Зиминке только Соня и Леночка, наложницы И. А. и начсанчасти.
Будь здесь посторонние, начлаг не был бы столь со мною вежлив: «Нам очень жаль вас терять, радовали нас своим искусством, да и женщина вы хорошая, но ничего поделать я не мог». — видимо «сплетники» сделали свое…
— Да ведь эшелон в Анжерку уже ушел!
— Нет, он еще на вокзале. — Сейчас офицеры и начлаг едут его отправлять и меня увезут с собой. Козырнув «даме», начлаг уходит.
Я чувствую даже какое-то облегчение, определенность. Рок. «Кисмет». Я как-то верю в свою звезду: не пропаду и в Анжерке, хотя лагерь там бытовой, женщин с 58 статьей единицы. Если б знала, что меня там ждет, испугалась бы, но, к счастью, на будущем пока флер неизвестности. Прибежавший Иванов твердит, что они еще поборятся за театр, еще вернут весь его женсостав! Он говорит это для В. Г., который весь потемнел от горя, его курносый лик заострился, он не скрывает слез.
В полчаса, данные на сборы, он экипирует меня, как на полюс, используя свои связи, чем спасает жизнь, ибо в Анжерке, не будь я так тепло одета, пропала бы. До сего дня «живет» у меня отданная им мне тогда овчинная безрукавочка.
В грузовик меня подсаживают. Офицеры становятся вокруг меня кружком, взявшись под руки. Конвоя нет, конвой — они. Я шучу: «Да вы сядьте, я ведь не убегу!». В ответ — молчание: уже я не актриса, не «дама», с конвоем разговаривать, тем более шутить не полагается! Перед посадкой в ожидающий нас эшелон, начсанчасти доктор Ермак подает мне сумку с медикаментами.
Ах, И. А., что Вы со мной сделали! Из мира интеллектуальных интересов я снова брошена в гущу бабьих блатняцких лагерей. Так лихо, как в Анжерке, мне еще не было!
Все, что последовало в ту ужасную для меня зиму, В. Г. в письмах ко мне назвал «борьбой за королеву», уподобив бои за театр (а для него самого — за меня) шахматной партии. Вовлечены в нее были и доктор Ермак, и начКВЧ в Киселевском лагере.
Во имя иллюзии истинного чувства Владимир Георгиевич сделал мне много добра. Трижды «спасал», в первую очередь, мою эмоциональную женскую индивидуальность.
Как рассказывал потом, на утро после моего отъезда был разговор в кабинете вольного нач. КВЧ. Зек вошел, подал отчет, который бессонной ночью закончил один. Лицо его опухло, голоса не было. За ночь прибавилось седины.
— Отправили-таки ее? — и мат, мат, по адресу Райзина.
— Отправили, гражданин начальник! — и заплакал. И тогда вольный мужчина спросил у мужчины заключенного:
— Ну что ты в ней нашел, Щербаков? Что?!
И услышал лестные для меня вещи о моей духовной силе. «Вот одному признаюсь: со всеми театральными девками я «жил», а с ней, любимой, — и помыслить не мог». Что-то начальник рассказал и из своей мужской практики, и стали бы они друзьями, кабы один из них не был «голубой фуражкой», а другой — зеком.
Именно во имя этой им неведомой «великой любви» и помогал В.Г. вольный начсанмед и нач. КВЧ С.И. Иванов в последующей «борьбе за королеву». Еще раньше, сражаясь с И. А. за мое место в театре В.Г. иногда сокрушенно восклицал: «Ах, не тот я сделал ход, не тот!».
Почему в лагерях так сильны порою бывают любовные эмоции, ревность так жестока? Во-первых, от запретности страстей человеческих. Во-вторых, от душевного одиночества каждого. В беспросветном мраке, где каждый друг другу — волк, в борьбе за существование, выбирается один человек, как доверенный души, как единственно (в условиях «скобок») близкий. И, если он изменит или предаст, или не отзовется (как в моем случае с И.А.), страшны бывают отчаяние, а порою и месть. Все это сильно, бурно, скоропреходяще. Иной парень или девушка любят исступленно, нежно, самоотверженно, обязательно страстно, но чуть это дойдет до начальства, пару обязательно разлучают этапированием — и все быстро стирается. Головой бился на вахте доктор Т., когда увозили его возлюбленную сестру Нину (впоследствии нашу артистку), но когда я его позже встретила, он искал новую привязанность. Хотя знаю я лагерную любовь столь прочную, что после насильственной разлуки ждали освобождения друг друга, искали, находили, и много лагерных пар старятся нынче вместе.
Мы с Владимиром Георгиевичем долго сохраняли дружество, ибо иллюзией чувств некогда спасли психику от растления и омертвения, украсив жизнь чувствами истинной влюбленности, чуть миновала жесточайшая полоса биологической борьбы за существование — голод и смрад быта. Окутывание эротики флером чувств тоже служило сопротивлением распаду личности, который был предусмотрен для заключенной в лагери интеллигенции.