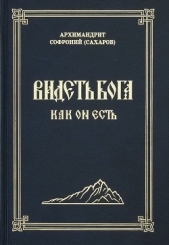Это мы, Господи, пред Тобою

Это мы, Господи, пред Тобою читать книгу онлайн
Воспоминания о репатриации казаков из Австрии в июне 1945 года, о лагере в Сибири. Автор — активная участница и одна из организаторов невооружённого сопротивления казаков против их насильственной выдачи англичанами в руки советских властей.
Евгения Борисовна Польская (в девичестве Меркулова) родилась в г. Ставрополе 21 апреля 1910 г. в семье терских казаков. Ее муж Леонид Николаевич Польский (1907 г.р.) был сыном Ставропольского священника Николая Дмитриевича Польского. В 1942 г. после немецкой оккупации супруги Польские в числе многих тысяч казачьих семей уходили на запад. В 1945 г. были насильно «репатриированы» обратно в СССР, как власовцы. И хотя в боевых действиях против «союзников» они не участвовали, Евгения Борисовна получила 7 лет лагерей, ее муж — 10. К концу жизни ею были написаны воспоминания «Это мы, Господи, пред Тобою…», в которых она описывает послевоенную трагедию казачества, а вместе с ним и всего русского народа, всей России… Скончалась Евгения Польская 18 января 1997 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На первых порах он согрет иллюзией «чудного мгновения», а я исполнена радостной жизненной полноты, став для него «и божеством и вдохновеньем».
Мне радостно: есть рядом человек, с которым можно говорить, не упрощая язык до ежедневного мычания, человек, понимающий нюансы, прелесть игры ума и не претендующий вначале на сексуальное завершение близости. Сорокалетний человек жаждет возвращения эмоций юношеских, и я ему не мешаю.
И понимаю, это у меня уже последнее женское… (И, действительно, я оказалась любимой в последний раз в жизни). Как-то в парикмахерской я увидела в зеркальце (в лагерях больших зеркал не полагалось) локоть своей руки. Локоть стареющей женщины. В Анжерке в поликлинике, куда привели под конвоем к зубному врачу, увидела перед собой немолодую женщину, в телогрейке, теплом платке грубой шерсти, с глазами, мрачно горящими. Такими бывают уличные цыганки. Из толпы пациентов эта женщина выделялась зловещим видом…, как некая колдунья, грязная и нищая. Миг — и я понимаю, что это я сама, отраженная в большом трюмо. И припомнила такой же «эффект зеркала» в молодости. Это было в Ялте, в ресторане. Я не заметила сразу, что одна стена в зале — зеркальная, взглядом столкнулась с загорелой девушкой, прелестной брюнеткой в платьице знойного цвета, дрогнула от ее очаровательности: тоненькая, с высокой шейкой и сияющими глазами и не сразу поняла, что это я сама отражена в зеркале. Так случилось и теперь. Мне страшно стало: вот я какая… старая!
И вот меня любят! Человек, избалованный женской прелестью там, где попадались женщины и краше меня. Говорил еще, что люба я ему «нравственной силой». Что в условиях лагерной неприглядности я ни разу не оскорбила его эстетическое чувство ни вульгарностью, ни неряшеством, ничем. Иван Адамович наблюдает наш «роман» с человеком, похожим на больного слона, тревожно. Но, зная что меж нами «ничего нет», ждет… Живется мне нелегко: я уже не сестра, но живем мы, женщины-актрисы, в стационаре. Завхоз, которого я прежде «гоняла» за грязь, и проч., используя нас, как санитарок, однажды предлагает мне вымыть пол. Мстит: «Это лагерь, Борисовна». Отказываюсь. Помогать буду только на медприемах. Идет с жалобой. Объясняю начальству. Поняли. Тогда Владимир Георгиевич забирает меня в КВЧ «хранителем материальных ценностей», что мы шутя называем «Лорд-хранитель печати». Вокруг лето. В зоне — густые заросли кашки и ромашек, букетами из них я украшаю не келью своего режиссера, а помещение КВЧ.
А после спектаклей на лицах зрителей свет и радость. Поистине — театр — тоже «островок гуманности». И главное — творчество! Редкостное явление в тусклоте предыдущих лет. И я со слезами благодарю И. А., за волосы втянувшего меня в этот мирок. Он молчит и смотрит на меня сухо.
На сцене у меня снова «ножка», в чудом сохранившихся изящных туфельках, а не лапа в растекшихся валенках или сапогах. В гриме я, вероятно, эффектна. Я — женщина, женщина! Подобные минуты «пробуждения» наблюдала я позднее в маргоспитальном театре у привозимых к нам из «отлова на этапах» актрисах. Привезли однажды «чувырлу», в телогрее, растоптанных валенках. Запела — ручей… Лагерная Золушка, обращенная в чувырлу злым энкаведешным колдуном.
А пока на меня глядят недоуменно (что она, лагерного обычая что ли не знает?) мурлыкающие глаза И. А. В «Волчьей тропе» Афиногенова он дает мне роль Ставской и среди реквизита покупает духи, чтобы я «чувствовала себя дамой». Деликатно ревнует: «Неправда ли, Каськов — красивый мужчина?» Равнодушно отвечаю, что он не может быть красивым, ибо он брюнет. Иван Адамович умолкает: он сам черен, как жук. На репетициях имя мое произносит с придыханием, но я ничего «не понимаю». Заметив, что я много времени провожу в обществе другого создателя театра, — Щербакова, он прозревает, и с этого часа начинается мне пока непонятная и незримая «борьба за королеву», как назвал всю эту историю В. Г. Щ. Я неведомо для себя становлюсь игралищем двух лагерных волков», один из них меня иллюзорно любит, другой мне мстит.
Догадавшись, что театр для меня уже все, И. А. лишает меня ролей. Тем более что для нужд альковных он уже получил некую девочку — самодеятельную и очень недаровитую Соню Дудкину, из которой он в буквальном смысле «делает актрису» — героиню, отрабатывает с ней каждый жест и каждый палец. Коринкину отдает прежде блатной Ниночке. И я — теперь лишь театральная портниха, расшиваю сшитые на меня платья, по ее плотной фигуре. Я должна смеяться, хохотать вместо нее за сценой — она не умеет. Работает И. А. с самодеятельниками столь успешно, что мы не узнаем кроткую Леночку в роли Кручининой. Мне даже не дают Галчихи, ее играет бездарная Вика, оставленная в театре по горячей мольбе: «хоть старух!». Педагог Иван Адамович лучше, чем режиссер: из вовсе бессмысленного Гриши-одессита, прежде подвизавшегося как самодеятельный клоун, он вырабатывает прекрасного и осмысленно играющего Кречинского, а потом сенатора в «Глубоких корнях». Мне не дают Улиту в «Лесе», о которой мечталось, Гоней в «Глубоких корнях» — тоже — Ниночке. Девочки плачут и предо мной почему-то извиняются.
Начальство строго спрашивает, почему «лучшая актриса» не получает ведущих ролей, И. А. аргументирует: профнепригодность — забывание слов, «зажимы» и оставляет меня, как техническую силу и только в старых ролях Фрозины, Ставской…
Владимир Георгиевич защищает меня, как лев: конечно, театру я необходима!
А вокруг царит лето! Необычное тепло. Нас переводят в другую необыкновенно уютную зону, с деревьями, что совсем позабыто, травою по пояс и в ней масса полевых цветов. Одна «стена» — проволочная, видны дали. Мне, горожанке, любы огни окрестных строек. В зоне, прежде японском (военнопленные) лагере, оставлены японцами остатки их уюта: белые ажурные мостики через овражки, расписанные стены землянок. В яме среди мусора мы находим огромное количество мелочей — очаровательные фонарики из стеклянных осколков, самодельные утюжки из рельсов, подсумки из настоящей кожи, бархатные лоскутья от чего-то. Все у нас, нищих, идет в дело, и для себя, и для театра. Зона эта в будущем будет вольным шахтным поселком, и в ней, вместо землянок, начинают строить хорошенькие финские домики и большое здание клуба — наш будущий театр с очень хорошей акустикой (стекло и прочие строительные хитрости — среди нас много инженеров).
Отношения с Райзиным все осложняются: я отказываю в «отрезе» ему на брюки от театральных благоприобретенных сукон (пресловутый «метраж»). Между режиссером и драматургом из КВЧ уже неприкрытая вражда, в которой пока побеждает Щербаков.
На ходатайство освободить актеров от прочих работ приходит ответ: могут работать только для театра Р. и я — профессионалы. А ролей у меня нет: я «не нужна». В «Глубоких корнях» Гоней мне не дали, в «Русском вопросе» я только безмолвная негритянка — официантка в кафе. Оправдываю изречение: «нет маленьких ролей»… Затем В. Г. придумывает для меня еще «постановочный эффект» в кафе: двое наших гимнастов и я «выступаем» в этом самом кафе на эстраде. Гимнасты ловко «ломают и бросают» меня, одетую в белоснежное платье «а ля «Большой вальс». Полная иллюзия гимнастического номера с дамой. В одном акте я дважды преображаюсь из негритянки в гимнастку, а спектакль эта сцена украшает. «Какая она «техничная»! — восхищаются зрители. — Но почему она не Мегги?!
— Ей нельзя поручать даже песенку, — грубо отвечает И. А. — Все равно, забудет слова». Все последующее — месть его за «неумение жить по законам лагерной жизни», где каждый должен воздавать «кесарево — кесарю»…
И когда В. Г. говорит, как украсило «Русский вопрос» мое участие в бессловесных даже ролях, И. А. отвечает злорадно: «Вряд ли сама Евгения Борисовна в восторге от такой роли»…
И я в отчаянии: я уже жажду творчества, а меня обрекают на фокусничество. В глазах начальства я ценна еще и тем, что «не нарушаю режим» — все актрисы его уже нарушают сожительством с облюбованными мужчинами-придурками. Кроме того отношение мое с В. Г. осложняется. За «романом» нашим следит вся зона. В. Г. вызывает вольный нач. КВЧ Иванов: «Что за слухи?» (их муссирует И. А.) «Я люблю ее, гражданин начальник, но люблю безнадежно, надеюсь, в этом нет «нарушения»? — «Почему же безнадежно?» — В. Г. рассказывает ему легенду об обете монашеского девства, данном мною «из побуждений религиозных». Сплетни начинают расти.