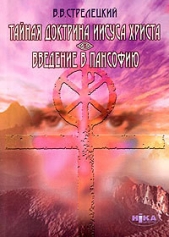Даниил Андреев - Рыцарь Розы
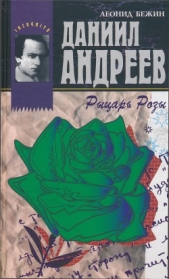
Даниил Андреев - Рыцарь Розы читать книгу онлайн
Эта книга благодаря собранным по крупицам свидетельствам современников и документам позволяет восполнить пробелы в сведениях о жизни и творчестве великого русского мистика Даниила Андреева и воскресить его во многом автобиографичный роман «Странники ночи».
Увлекательное исследование Леонида Бежина адресовано самому широкому кругу почитателей творчества Даниила Андреева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ирина чувствует себя внутренне взбешенной: какой негодяй! Она полна презрения к этому ничтожеству, доносчику, сексоту, но вслух не высказывает его. Бегающие глазки Венечки только и ждут, подталкивают, провоцируют: выскажи, выскажи, как ты меня презираешь и ненавидишь, и моя власть над тобой только усилится, ты уже не вывернешься, не спасешься. Ирина молчит. Затем спокойно, сухо и твердо, откинув золотистые волосы, просит дать ей время подумать. Венечка — сама любезность, само великодушие — конечно же дарует ей отсрочку. Думайте, Ирина Федоровна, сколько вам понадобится, решай те, только не слишком морщиньте ваш лобик и будьте уверены: мы со своей стороны даем полную гарантию. У нас свои понятия о порядочности (мы хоть и воры, но честные), и мы вас заверяем, что до вашего решения не предпримем никаких действий. Не поддадимся искушению, так сказать…
Даже если рука захочет, мы себя за руку — цоп! Не шали!
По дороге домой Ирина перебирает в уме всех, кого назвал Венечка, и обнаруживает в этом перечне спасительный пропуск. Это кажется невероятным, похожим на чудо, но по каким‑то неведомым причинам Венечка упустил Василия Михеевича Бутягина, историка и библиотекаря, одного из их группы. То ли недосмотрел, недоглядел, то ли она последнее время редко с ним встречалась, но это — шанс. Единственный шанс на спасение. Ирина звонит Бутягину в библиотеку и просит срочно приехать. Голос в трубке, спокойный, чуть приглушенный, не допускает возражений, и Василий Михеевич, отложив все дела, за- полошно спешит на Якиманку. Вот он, запыхавшийся, взмокший, уже в ее комнате. Уф, дайте отдышаться. Вытирает платком покатый лоб. Что случилось?
В подробностях ничего не объясняя (нет времени, дорога каждая минута), Ирина лишь сообщает, что их выследили, им грозит арест, и передает ему компрометирующие записи, бумаги, документы. Спрячьте! По счастливому стечению обстоятельств о вас им ничего не известно.
Бутягин, необыкновенно серьезный, взволнованный, преисполненный сознания значимости своей роли (он чувствует в себе нечто героическое), все уносит в портфеле. Крадучись спускается по лестнице вниз. Толкает дверь. Возле дома Глинских прохаживается некто, безучастно поглядывая по сторонам.
Когда Василий Михеевич шел сюда, никого не было, и вот на тебе. Неужели слежка? Бутягин вдруг похолодел (героическое с него сразу сошло), половина лица онемела, показалось, что галстук сдавил шею, не хватает воздуха. И рука с портфелем — не своя. Сейчас остановят. Что сказать? Портфель. Выронить, бросить? Отшвырнуть ногой?
Он все‑таки чудовищным усилием воли заставил себя успокоиться. Неторопливо, степенной походкой (приятный вечерок, мол, прогуливаемся) направился к Крымскому Валу. Внезапно нахлынула толпа, Василия Михеевича обступили, чубатые лбы, начищенные мелом тапочки и блузки со шнуровкой, — дружина ОСОАВИАХИМа. И тут он крутанулся, метнулся, юркнул куда‑то, пригнув голову, и — неслыханная удача! — оторвался от слежки, исчез, пропал, канул.
Глава тридцать шестая
АРЕСТ
Однако беду на Глинских навел, накликал не Венечка Лестовский, и Василий Михеевич напрасно радовался, ликовал, оторвавшись от слежки. Удар обрушился с другой стороны, и обрушился он на Леонида Федоровича, — вернее, Леонид Федорович сам подставил посеребренную сединами голову…
Продолжались показательные судебные процессы над врагами народа, и газеты печатали их подробные протоколы. По утрам, развернув «Правду» или «Известия», можно было прочесть о том, что разоблачены новые наймиты, двурушники и предатели, которые сами подробно рассказывают о своих злодеяниях.
Вот вам, пожалуйста, подробная стенограмма. И никому было невдомек, что измученных, истерзанных ночными допросами и пытками, запуганных угрозами, обманутых ложными посулами людей заставляли признаваться, выбивали признания в несовершенных преступлениях: заговорах с целью свержения строя, подготовке диверсий и покушений, сотрудничестве с иностранными разведками и проч., проч.
И существовала иезуитская процедура, повязывавшая всех остальных кровью невинных жертв, — процедура всенародного вынесения приговора.
На заводах, на фабриках, в институтах, академиях, учреждениях и конторах собирали всех в актовом зале; на сцене за столом, под кумачовыми лозунгами и портретами вождей восседал президиум. Зачитывали протокол очередного судебного заседания, а затем кто‑то заранее назначенный, передовой и идейный, почтенный и мудрый или, наоборот, молодой и горячий, выходил на трибуну и взволнованно, с искренним негодованием и даже благородной истерин- кой в голосе требовал смертной казни для врагов народа, двурушников и наймитов.
Слышался гул одобрения, поднимался лес рук: в зале все послушно голосовали. Большинство, нечувствительное к людским страданиям, было уверено, что все именно так, как пишут в газетах: виновные же сами признались. Другие — их было гораздо меньше — смутно чувствовали, что участвуют в чудовищной инсценировке, кровавом спектакле, но старались глубоко не вникать в смысл происходящего, поскорее проголосовать и забыть, думая: «Если я не проголосую, ничего не изменится, никого это не спасет, так зачем же?..»
Сидевшие в президиуме (так и хочется сказать — паханы) и подсаженные в зал (наводка) внимательно наблюдали, а не найдется ли кто‑нибудь не проголосовавший, отщепенец, затаившийся враг. Всем было ясно, что несчастный, не поднявший руку, обречен, его ничто не спасет. Сразу в зале, может быть, и не подойдут, прилюдно не арестуют, но ночью за ним придут, поднимут с постели, велят доставать чемоданчик со сменой белья и куском мыла. А во дворе поджидает, косит глазом черный ворон, вернее не ворон — воронок…
И тем не менее Леонид Федорович не поднял руку.
Все было как обычно: собрали в зале, зачитали протокол, заранее назначенный вышел на трибуну и с истеричным надрывом в голосе потребовал. Поднялся лес рук, и только Леонид Федорович не проголосовал. Сидевшие рядом с удивлением и тревогой на него поглядывали, кто‑то, наклонившись к уху, прошептал: что же он медлит? Кто‑то сзади толкнул в плечо: одумайся, дурья башка. Кто‑то впереди, обернувшись, с мучительным состраданием на него посмотрел: господи, на что ты себя обрекаешь!..
А сам Леонид Федорович с усмешкой спросил себя: может, правда этак воровато, — так сказать, для проформы, — поднять руку? Поднять и сразу — дерг! — опустить? Это сочли бы достаточным, никто не потребовал бы от него большего. Но он знал, что это значит — быть повязанным кровью невинных, какие это повлечет за собой последствия, — если не здесь, в этой жизни, то там, за ее чертой. И он не поднял: был тверд в своем решении. В президиуме это заметили, переглянулись, крайний встал и вышел. Явно спешил сообщить куда следует. Даже не стали спрашивать, есть ли кто‑нибудь против, вносить в протокол голосования, портить картину. Все и так ясно: единогласно! Его же участь была решена, он сам подписал себе приговор.
Вернувшись домой с собрания, Леонид Федорович остановился в дверях, упираясь в дверной косяк, такой большой, широкий и словно бы уже нездешний, бесплотный, сквозящий на свету, выпадающий в иное измерение. Сказал Ирине, чтобы она была готова: ночью его арестуют. Не проголосовал? Не проголосовал. После этого заперся в комнате, надолго затих, не отвечая на ее стук. Стоя у двери, Ирина попробовала сосредоточиться, собраться с мыслями, за что‑то взяться, что‑то сделать, но вдруг почувствовала, как она жалка и слаба. Ультиматум Венечки, все события этого дня совершенно ее подкосили, и не было сил ни на что — только на слезный скулеж, бабьи стоны и жалобы.
Кому позвонить, кого позвать, попросить приехать? Нет, только не Адриана: этот человек для нее все, в нем смысл и цель ее жизни, ее радость, боль, мука. Адриана нельзя ни о чем просить, требовать от него нечто дополнительное к тому, что он просто был, существовал, нельзя вовлекать его в какие‑то житейские ситуации, обстоятельства, пусть даже такие трагические, как грозящий брату ночной арест. Адриан выше всего этого, он над этим, хотя, конечно, он бы приехал, примчался и был рядом с ней. Но нет, она никогда ему не позвонит, не позовет, не попросит. Никогда!