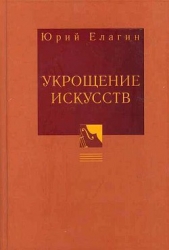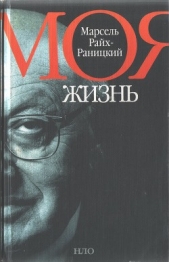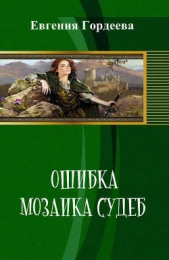Мозаика еврейских судеб. XX век
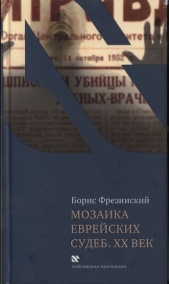
Мозаика еврейских судеб. XX век читать книгу онлайн
Книга историка литературы Бориса Фрезинского содержит 31 сюжет. Их герои — люди как общеизвестные (Соломон Михоэлс, Натан Альтман, Илья Ильф или Василий Гроссман), так и куда менее знаменитые. Все они жили в XX веке — веке мировых катастроф — и работали преимущественно на территории Российской империи или СССР. Книга не случайно начинается с повествования об убийстве Соломона Михоэлса — знакового для советской эпохи преступления, обнажившего начало нового политического курса Сталина…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рауля Валленберга, спасшего от гитлеровцев десятки тысяч евреев, Кремль распорядился уничтожить, и его убили в Лубянской тюрьме. Францу Муреру, убивавшему еврейских женщин и детей, Кремль даровал свободу, и его отпустили домой наслаждаться жизнью.
В 1961 году израильтяне отловили одного из главных палачей еврейского народа Адольфа Эйхмана, судили его и казнили. Процесс Эйхмана имел огромный резонанс в мире. Он всколыхнул и Австрию. Мурера снова арестовали и предали суду. СССР в этом процессе участвовать не стал. Долгое разбирательство кончилось позорно — Мурера оправдали. Это решение заставило Машу Рольникайте достать свой дневник, перевести его на литовский язык и отнести в вильнюсское издательство. Она назвала рукопись «Я хочу жить».
В Москве об этом узнал Илья Эренбург, он выразил желание познакомиться с рукописью. Но Эренбург не знал ни литовского, ни идиша, и Маша перевела свой дневник на русский язык специально для Ильи Григорьевича. 28 августа 1962 года он написал автору дневника: «Я прочитал Вашу рукопись не отрываясь, нашел ее очень интересной и надеюсь, что она будет напечатана. Перевод неплохой, но все же требует некоторой небольшой редакторской обработки… Последний мой совет — измените название, найдите другое, более спокойное. После того как эта книга выйдет на литовском языке, я помогу Вам в напечатании ее перевода на западные языки». Эренбург слово сдержал, и в 1966-м книга М. Рольникайте «Я должна рассказать» вышла с его предисловием в Париже. Годом раньше ее напечатала ленинградская «Звезда». С тех пор книга «Я должна рассказать» издана в 18 странах. Многие издания ее украшает портрет автора, сделанный в Вильнюсе в 1940 году…
Маша Рольникайте стала писательницей. Она пишет только о том, что хорошо знает, что считает самым важным в жизни. Несколько десятилетий она живет в Питере, здесь написаны и напечатаны все ее книги.
Я не пишу юбилейную статью о творчестве писательницы М. Рольникайте, хотя шесть ее повестей стоят подробного разговора. По временам голос ее звучал приглушенно, как в «Привыкни к свету» (1976), потом он обрел большую раскованность, как в повести «Свадебный подарок, или На черный день» (1990).
Мария Григорьевна все так же активна, доброжелательна, внимательна к людям, как и в давнюю пору, когда мы познакомились. Только глаза ее часто бывают печальны и растерянны…
10 марта 1945 года молоденький красноармеец сказал Маше: «Не плачь, сестренка, мы тебя больше в обиду не дадим». Неужели это его внук стоит сейчас на Невском со свастикой на рукаве и продает фашистские листки?
Мне бывает стыдно смотреть в глаза Марии Григорьевне. Вроде ни в чем не виноват, а все равно стыдно…

Маша Рольникайте

Презентация новой книги М. Г. Рольникайте. Справа налево: Л. Дановский, М. Рольникайте, Б. Фрезинский. Санкт-Петербург, 2002 г.
Жизнь после смерти (Лев Дановский)
Похороны Льва Абрамовича Айзенштадта собрали массу народа.
Шедшие к нему от метро в сторону больничного морга невольно вычислялись в общем потоке; потом стало понятно: тут были товарищи школьных и вузовских лет, коллеги по прежней (совшарашка) работе, родные и друзья, наконец — читатели и ученики поэта Льва Дановского.
Что-то отличало их от других, тоже спешивших к задворкам больницы.
После безмолвья морговской душегубки, где прежний формальный кумач давно уже бездумно-расторопно заменен православными хоругвями и где в неуважительной часовенной тесноте не всем удалось пробиться к гробу, лишь на просторе сельского кладбища, в пригородной снежной белизне прощание обрело достойные черты.
На компактном плоском полукруге кладбища, окаймленного высоким зимним лесом, все приехавшие свободно расположились вокруг Лёвы, безучастно лежавшего под большим небом. Никого больше не было, и обычное на городских кладбищах ощущение фабричного, поспешного, планового потока здесь не возникало, не утяжеляло тоски. А потому и несуетная кладбищенская обслуга безропотно ожидала своего череда для привычно завершающего дело закапывания. Вместо рыданий близких и казенных или сбивчивых, неточных слов прощания читались Лёвины стихи, больше поздние, и, как бывает в таких случаях, они приоткрывали новый и горький теперь смысл, личный для каждого. Голос был индивидуальный, Лёвин, не заученный, молитвенно-утешающий.
Фон равнодушно-вечной природы придавал всему высокий и сосредоточенный смысл…
Мы познакомились поздно, теперь приходится думать: слишком поздно. В конце осени 2000 года незнакомый человек позвонил мне и сказал, что хочет взять интервью для журнала «Народ Книги в мире книг» — к 110-летию Ильи Эренбурга. Так мы встретились, но подружились позже — вскоре, но не сразу. Так же не сразу узнал, что Лёва пишет стихи; свою первую книжку, вышедшую в 98-м, он подарил мне в мае 2001-го в Музее Ахматовой, где открылась выставка «Эренбург-фотограф». Стихи Лёвы оказались превосходными, но, показалось мне: в них слишком часто звучал не его голос, а голоса узнаваемые, разумеется, первостатейные, но не его. Я сказал ему об этом, даже назвал Бродского и Кушнера, и уже потом обрадовался, что он не обиделся, согласился. Новые стихи, которые время от времени Лёва давал прочесть или послушать, были так хороши, что разговор о его новой книге возникал у нас постоянно. Ее путь к читателю оказался долгим, непростительно, но все-таки Лёва ее дождался — хорошо отпечатанную книгу отменных стихов, и, думаю, она стала событием для многих, ее прочитавших. Последний, как оказалось, Лёвин год прошел под ее знаком, и теперь это кажется большой удачей справедливости. Новые стихи этого последнего года говорили о том, что их автор держал завоеванную им высоту легко и прочно.
Однажды он принес мне напечатанный на листке стишок, посвященный мне. Этому посвящению я удивился; прочитав стих, удивился больше. Прямой увязки посвящения с содержанием стиха не было; очень долго к нему привыкал…
Адрес «Рубинштейна, 3» — один из нескольких Лёвиных рабочих адресов последнего десятилетия, но, может быть, более других ему симпатичный. Мы там встречались чаще всего. Плюс телефон, плюс встречи домашние — их, увы, было не так много, как хотелось бы, тем более теперь.
Лёвина тамошняя работа была разноформатной: он вел несколько циклов литературных вечеров, делал постоянные обзоры периодики для журнала «Народ Книги в мире книг», писал для него рецензии, публиковал интервью — с этой его работой я знакомился постоянно; а вот о поэтической студии, которую он вел для молодых, знал мало. Стихи, конечно, были главным в его литературной работе, но и другие ее жанры давались ему и с годами осуществлялись все лучше и точнее: он умел в нескольких словах сказать о главном. На поэтических вечерах Лёва демонстрировал искусство точного вступительного слова, умение дать емкий, убедительный портрет поэзии приглашенного выступать — это с несомненностью ощущалось к концу вечера… Такой работе полагалась регулярность, раз в месяц, что несомненно создавало большие трудности, но все-таки поэтов Лёва умудрялся отыскивать: поэтическое хозяйство Питера он знал подробно. Не раз случалось, что имена оказывались мне неизвестные, тогда спрашивал его: стоит ли приходить? — а он отвечал, никогда не зазывая, соблюдая строгость по части комплиментов, но несколько раз жалеть точно не пришлось — и это осталось в памяти.
Его собственные вечера — будь то в Доме ученых или в Музее Ахматовой — становились праздником: читал свои стихи он замечательно внятно и вдохновенно, раскатами голоса немало помогая их осознанию.
Сердечнее всего бывали застолья с неизменными литературными разговорами, не то чтобы трепом, но живым и свободным. Лёвина реакция была искрометной, смех — громогласным, глаза сверкали. Полунамеки, точные и броские реплики, ирония, новая информация — зажигали его незабываемо. Литература XX века, его история, прошлое и настоящее политической жизни — поля, на которых мы чувствовали себя товарищами. От него я узнал впервые о Гандельсмане, о нем Лёва говорил всегда охотно, признаваясь, что это для него самое близкое в теперешней русской поэзии.