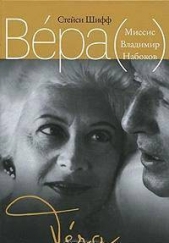Владимир Набоков: русские годы

Владимир Набоков: русские годы читать книгу онлайн
Биография Владимира Набокова, написанная Брайаном Бойдом, повсеместно признана самой полной и достоверной из всех существующих. Первый том охватывает период с 1899 по 1940-й — годы жизни писателя в России и европейской эмиграции.
Перевод на русский язык осуществлялся в сотрудничестве с автором, по сравнению с англоязычным изданием в текст были внесены изменения и уточнения. В новое издание (2010) Биографии внесены уточнения и дополнения, которые отражают архивные находки и публикации, появившиеся за период после выхода в свет первого русского (2001) издания этой книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В редкие минуты уныния она тоже говорила, что их чувства не справились с трудной зимой. В «Других берегах» Набоков решил возродить очарование их первой любви и лишь вскользь упомянул о разладе, возникшем между ними летом 1916 года. Кажется, что, хотя их и радовала возможность снова быть вместе, вновь обретенная летняя свобода принесла также разочарование, признаки невозможности пережить заново прошлые восторги — подобно тому как долгожданное повторение счастливого прошлого приводит к столь явному разочарованию в «Машеньке», во второй мотельной одиссее «Лолиты», во втором «Адином» лете в Ардисе. Творец Гумберта Гумберта и Вана Вина был ревнивым любовником. Особенно расстраивала его Люсина
привычка прятаться за спиной какой-нибудь из своих подруг, которой она приписывала детали романтического любовного опыта — очевидно, более богатого, чем мой собственный… Я был более или менее уверен, что она не встречается с другими молодыми людьми, но ее игривые заверения в верности были рассчитаны на то, чтобы скорее распалить мою ревность, чем рассеять ее 32.
Одно несомненное отличие от предыдущего года состояло в том, что дядя Василий вернулся в Рождествено, и приютные углы под аркадой больше не могли служить безопасным убежищем 33. На неделю заехал Юрий, надевший форму кадетского училища. Владимир догнал брата в стихотворчестве, приближался к нему в любовных подвигах, но теперь, когда Юрий стал солдатом, Набокову нужно было снова доказывать, что он не уступает брату в смелости. Новое испытание подлило масла в огонь их дружеского соперничества. Они забавлялись тем, что
каждый по очереди ложился навзничь на землю под низкую доску качелей, на которых другой мощно реял, проскальзывая над самым носом лежащего, и покусывали в затылок муравьи 34.
Словно бы в подтверждение того, что испытание выдержано, Владимир поменялся с Юрием одеждой и прошел в его форме по селу. Когда тремя годами позже Юрий, облачившись в военную форму, на скаку встретил свою героическую, хотя и безрассудную гибель, молодой Набоков как раз предпринимал попытки записаться в его полк, и он не мог не содрогнуться при страшной мысли, что растерзанное тело в гробу вполне могло бы оказаться его телом — ведь они так часто менялись местами в испытаниях на храбрость.
В то лето Набоков слишком часто, после множества свиданий, репетировал расставание с Люсей, чтобы запомнить, как именно они попрощались в последний раз. В начале осени она переехала в город и устроилась работать, выполнив условие, поставленное ее матерью, прежде чем та согласилась снять дачу 35. По возвращении в Петроград Владимир почувствовал, что их любовь прошла.
В городе ему также пришлось пережить критические нападки на книжку стихов, которую он «имел несчастие издать». Владимир Гиппиус принес как-то сборник в класс и привел учеников в безумное веселье, изливая свой сарказм на самые романтические из набоковских стихов. Стихи заслуживали этого, но Гиппиусу, наверное, особое удовольствие доставляла возможность высмеять романтическую причину прошлогодних прогулов В. Набокова. Когда Корней Чуковский получил от Владимира Дмитриевича книгу его сына, он написал юному поэту вежливое письмо с похвалой, но, словно бы по ошибке, вложил в конверт черновик, содержащий более честную оценку. Зинаида Гиппиус, один из ведущих символистских поэтов и язвительная хозяйка главного литературного салона столицы, встретившись с В.Д. Набоковым на заседании Литературного фонда, любезно попросила его передать Владимиру, что он никогда, никогда не будет писателем. Льстивый журналист Л., у которого были основания для благодарности отцу Набокова,
написал восторженную статью о моих дрянных стишках, строк пятьсот, сочившихся приторными похвалами; отец успел перехватить ее и воспрепятствовать ее напечатанию, и я живо помню, как мы читали писарским почерком написанный манускрипт и производили звуки — смесь зубовного скрежета и тонкого стона — которым у нас в семье полагалось частным образом реагировать на безвкусицу, неловкость, пошлый промах. Эта история навсегда излечила меня от всякого интереса к единовременной литературной славе и была, вероятно, причиной того почти патологического равнодушия к «рецензиям» дурным и хорошим, умным и глупым, которое в дальнейшем лишило меня многих острых переживаний, свойственных, говорят, авторским натурам 36.
VI
Осенью 1916 года дядя Владимира, Василий Рукавишников, умер в полном одиночестве в лечебнице «Сан-Мандэ» под Парижем. Никто почему-то не принял всерьез его болезнь — грудную жабу, и двадцать лет спустя в финале своего первого английского романа Набоков странным образом отдал ему последний долг, заставив Себастьяна Найта также умереть в одиночестве и тоже от грудной жабы в больнице «Сан-Домье» под Парижем. Перейдя на английский, Набоков постепенно вернет себе материальное благополучие. В свои семнадцать лет он получил в наследство от дяди миллионное состояние и в придачу имение Рождествено с двумя тысячами акров земли и вековой усадьбой в классическом стиле. Хотя Василий Иванович, имевший гомосексуальные наклонности, обожал своего красивого племянника, порядок наследования семейной собственности был установлен задолго до его смерти — когда родились первые трое детей Набоковых — и не был связан с личными привязанностями: Рождествено отходило Владимиру, петербургский особняк — Сергею, Выра — Ольге. Владимир Дмитриевич был против того, чтобы его сын столь рано получил такое большое наследство 37.
Владимир провел счастливейшие часы своей счастливой юности на террасе Рождественской усадьбы ранней осенью 1915 года. Теперь усадьба принадлежала ему, но любовь ушла в прошлое. Предоставив другим издеваться над его рифмованными признаниями в любви, он пошел дальше. Почти десять последующих лет своей жизни он целиком посвятил любовному экспериментированию, которое считал необходимым опытом элегантного littérateur. В конце 1916 года у него, похоже, были одновременно романы стремя женщинами, одна из которых, Татьяна Зегерфельд, была сестрой Юрия Рауша и женой ушедшего на фронт военного. Получив состояние, семнадцатилетний юноша мог с шиком водить их в лучшие рестораны Петрограда — и никто не задавал ему вопросов 38.
Оглядываясь назад на этот период своей жизни, Набоков видел себя
как целую сотню молодых людей, все они гонятся за переменчивой девой в череде одновременных или наслаивающихся любовных связей, порой очаровательных, порой омерзительных, простирающихся от приключения длиною в одну ночь до отношений длительных, запутанных и притворных, приносивших весьма посредственные художественные плоды 39.
В ретроспекции он считал свою молодость в равной степени бесталанной и банальной — как в поэзии, так и в любви 40. Его соблазняли затасканные чувства и затасканные слова. Из этой фазы он вынес несколько уроков: боязнь общепринятого, тем более сильная, что он сам поддался ему; отвращение к художнику, заявляющему, что ради своего искусства он имеет право распоряжаться жизнями реальных людей по собственному усмотрению; сознание, что нет ничего общего между легко воспламеняющимся эротизмом и негасимым пламенем его первой любви. Стихи, вспыхнувшие благодаря Люсе, были не менее вторичны, чем те, которые обязаны своим появлением ее преемницам, но, во всяком случае, с Люсей Набоков достиг такого эмоционального накала, который не ослабевал в его прозе в течение пятидесяти лет.