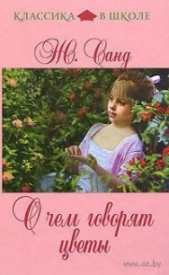Рыцарь совести

Рыцарь совести читать книгу онлайн
Если человек родился, нужно хотя бы прожить жизнь так, чтобы поменьше было совестно. О том, чтобы вовсе не было стыдно, не может быть и речи. Обязательно есть, за что стыдиться: потакал страстям… Ну нет в тебе Отца Сергия — не ночевал он никаким образом — палец же себе не отсечешь за то, что возжелал. Потом начинаешь мучиться: зачем мне это было нужно? У Канта есть дивная запись: мочеиспускание — единственное наслаждение, не оставляющее укоров совести. Все остальные… Нажрался. Зачем? Напился. Зачем? Любовные связи. Зачем мне это было нужно? Муки совести не будут давать мне покоя до конца дней, как и понимание своего несовершенства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
24-й партийный съезд?
Зяма всегда и все в жизни делал очень аппетитно. Когда я видел, как он ест, мне сразу же хотелось есть. Он никогда не «перехватывал» в театре, между репетициями или во время спектакля. Все ели, потому что были голодны, а он терпел и ехал домой на обед или ужин.
У Тани Гердт фамилия не Гердт. У Тани Гердт фамилия — Правдина. Не псевдоним, а настоящая фамилия, от папы. Трудно поверить, что в конце XX века можно носить фамилию из фонфизинского «Недоросля», где все персонажи: Стародум, Митрофанушка, Правдин… стали нарицательными. Нарицательная стоимость Таниной фамилии стопроцентна. Таня не умеет врать и прикидываться. Она честна и принципиальна до пугающей наивности. Она умна, хозяйственна, начальственна, нежна и властолюбива. Она необыкновенно сильная. С ее появлением в жизни Зямы возникла железная основа и каменная стена. За нее можно было спрятаться. Такой разбросанный и темпераментный, эмоционально увлекающийся человек, как Зяма, должен был всегда срочно «возвращаться на базу» и падать к Таниным ногам. Что он и делал всю жизнь. Таня — гениальная дама, она подарила нам последние 15 лет Зяминой жизни.
Зяма был дико «рукастый». Такой абсолютный плотник. Всю столярку на даче он всегда делал сам. А на отдыхе, у палаток — скамейку, стол, лавку, табуретку; всё это он сбивал за одну секунду.
Я тут недавно вспоминал Зяму, когда у себя в Завидове пытался построить сортирный стул, чтобы была не зияющая дыра, а чтобы всё было удобно. Я мучился, наверное, двое суток над этой табуреткой. И когда я забил последний гвоздь, понял, что прибил этот несчастный стульчак с другой стороны, — вся семья была в истерике. И я вспомнил Зяму. Он бы соорудил все это за две минуты, и это был бы самый красивый и удобный уличный сортир в цивилизованном мире. Он сделал бы трон.
Галина Шергова,
режиссер, журналист, поэт
Виночерпий на пиршестве победителей. На празднике жизни. На котором он, в отличие от известных персонажей, не был чужим.
Разумеется, я должна тут одернуть себя — больно уж ударилась в восточно-вычурную стилистику повествования. Но не буду ее менять. Во-первых, потому, что Гердт сам любил подчас роскошества речи. А во-вторых, и главных, потому, что нет в таком зачине никаких излишеств и метафор. Просто он именно так вошел в мою жизнь. На празднике. Самом великом празднике нашего поколения — 9 мая 1945 года.
В тот день, ошалевшие от долгожданной радости, мы целый день блуждали по Москве, целуясь и братаясь с незнакомыми людьми, а вечером собрались на квартире моей подруги. Приходили самые разные посетители. И кто-то привел его.
Тоже узнанного только что. В комнату вошел маленький, худой человек на костылях. Вместо приветствия он отшвырнул костыли и, прискакивая на одной ноге, провозгласил: «Все! Они с нами уже ничего не смогут сделать!» И в этом ликующем утверждении была не только констатация окончания войны, беспомощности побежденного врага. «Они» вмещало в себя всех и вся, кто когда-либо попытается совладать с нашей жизнью, надеждами, порывами.
И вправду: все последующие полвека нашей дружбы я знала Зяму стойким оловянным солдатиком, которого не могли повалить ни трудности, ни покушения на свободу его выбора и человеческое достоинство. А доставалось ему достаточно всяких испытаний.
В тот вечер были извлечены все запасы водки, которую мы долго собирали, выменивая на хлеб, получаемый по карточкам. Очень хотелось этот хлеб съесть — мы все были молодые и голодные. Но мы копили водку к этому дню, который ждали так долго. И на этом пиршестве Гердт как-то естественно стал виночерпием. Не Саша Галич, не Семен Гудзенко, не те, другие, кто вернулся с войны, а он. Самый праздничный из всех. Он стал не разливалой, а виночерпием.
Не было привычных уже военных кружек и граненых стаканов. Откуда-то были добыты бабушкинские дореволюционные бокалы, и водка в гердтовских руках не плескалась, не бухала в емкости, а почтительно ворковала с хрусталем, подгоняемая Зямиными тостами, вроде бы и не подходящими к поводу питья: «За что же пьем? За четырех хозяек, за цвет их лиц, за встречу в Мясоед. За то, чтобы поэтом стал прозаик и полубогом сделался поэт!» Все мы, присутствующие там, были у истоков своей будущей поэзии или прозы. Всем нам верилось, что именно День Победы знаменует рождение будущих книг. Или фильмов. Или спектаклей. Откуда нам было знать, что дорога этих книг и фильмов к читателю и зрителю будет столь же трудной, а порой и смертельной, как и наши военные кочевья…
Но тогда пиршествовал праздник жизни, и все мы, самонадеянные и подвыпившие, верили безоговорочно: мы, и прозаики и поэты, станем полубогами. Недаром же тосты высокопарны, а виночерпий — великодушный хромой бес.
Что-то и впрямь не будничное, лукаво-бесовское было в его повадке. Даже имена реалий, окружавших его. Смотрите, как звучал адрес его жилья: Пышкин огород, Соломенная сторожка. Не какие-нибудь механические Метростроевская или Автозаводская. Там, на окраине с загадочным названием, Зямина семья жила в кособокой хибаре. Жалкой и немощной. Как-то, подведя меня к этой лачуге, Зяма сказал: «Вот тут будет висеть мемориальная доска: «Здесь жил и от этого умер Зиновий Гердт».
Обряжать притерпевшуюся обыденность в карнавальные одежды-шутки — удел избранных.
Не хохмить, не тужиться в остроумии по каждому поводу, а вот так — обряжать с легкостью — Гердт умел.
Однажды Зяма, Леша Фатьянов и я поехали в Ленинград. Денег у нас почти не было, но так как всем нам светили питерские гонорары, мы, шикуя, поселились в «Астории». Но дни шли, а денег нам не платили. Мы уже таились от администрации гостиницы. Но в один прекрасный вечер нас ухватила съемочная группа: герою фильма актеру Хохрякову требовалось для съемок пальто. А найти такой огромный размер они не могли. И вдруг — Фатьянов, высокий, могучий. «Дайте, пожалуйста, пальто в аренду. Мы оплатим».
На доходы со съемок фатьяновского пальто мы протянули три дня до получения первых гонораров. Гердт окрестил спасительную одежку «труппа из тулупа» и каждый вечер разыгрывал мини-спектакли, где в разных амплуа выступало это самое пальто. И так во всем.
Даже о своих многочисленных браках он рассказывал, чувствуя веселую плоть слова. Один из его тестей был крупной шишкой в Средней Азии. Зяма отзывался о собственной жизни: «Влачу среднезятьское существование». Другая его жена была скульптором. Лепила фигурки, игрушки. Он называл это «детский лепет».
Да, женитьбы были многочисленными. Признаюсь, я со своими однолинейными вкусами, направленными на красавцев, не очень понимала причины его оглушительного успеха у женщин. Хотя ценила и ум его, и талант, и непобедимое обаяние. Но, так или иначе, свидетельствую: Гердт нравился женщинам, пожалуй, больше других известных мне мужчин. Все они любили его самозабвенно и бескорыстно.
Меняли жен многие жрецы искусств. Помню разговор на Пушкинской площади драматургов Полякова и Прута. Оба они многократно уходили от жен, всякий раз строя квартиру для каждой. Тогда Прут, оглядевшись по сторонам, сказал задумчиво: «А неплохой городишко мы с тобой, Володя, отстроили!» Когда я рассказала эту историю Зяме, он грустно произнес: «На днях одна маленькая девочка сказала мне: «Мы получили комнату — семнадцать квадратных метров. Понимаете, квадратных!» А я даже обыкновенного метра никому не мог вручить. Обидно».
Действительно, настоящий собственный дом у него появился поздно. Вместе с настоящей женой. Когда Гердт женился на Тане и познакомил нас, я спросила его (Таня куда-то отошла):
— Ну, и какой срок отпущен этой милой даме?
Даже не улыбнувшись, он отвечал:
— До конца жизни.
— Что, как у Асеева, «из бесчисленных — единственная жена»? — Мы любили разговаривать строчками.
— Отсюда — в вечность. Аминь. А может — омен, возможны варианты.
Зяма сказал так. Так оно и произошло. Все предыдущие браки были как бы романами под общей крышей. Жизнь с Таней была семьей, домом, заботой, нерасторжимостью. И любовью. Не притушенной временем любовью.